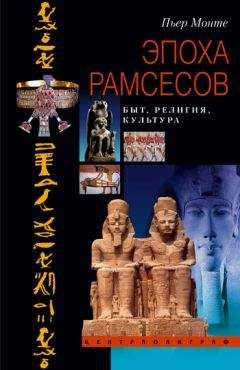Переписывая прошлое: Как культура отмены мешает строить будущее - Весперини Пьер
Получая образование, профессиональный интеллектуал обучается поддерживать существующий порядок. Порой активно, легко принимая свое «идолопоклонство перед фактом» за философию Истории {111}. Порой пассивно, довольствуясь тем, что скромно выполняет свою работу (проявлению этой скромности, как и других типичных добродетелей мелкой буржуазии {112}, способствует также все большая – и все более катастрофическая – специализация поручаемых ему задач) и не вмешивается в дела, где его ум и знания могут оказаться ценными, а значит, опасными. У поколений, на чьих глазах произошло падение Стены, а вместе с ней и идеологии, то есть установление гегемонии неолиберализма (который, будучи гегемоном, мог позволить себе не притворяться идеологией), определенный скептический, циничный нигилизм еще накладывал на этот массовый отказ от идеалов ложный отпечаток многоопытной ясности {113}.
Отсюда и энтузиазм, с которым многие профессионалы и вообще «культурные» люди во Франции восприняли публичный образ Макрона. Он походил на них, будучи всегда «лучшим в классе» и преуспевая, как любой примерный ученик, в искусстве угождать авторитетам и сильным мира сего {114}. Так любимое им выражение «в то же время» придавало видимость диалектической утонченности той беспринципности, с которой они были слишком хорошо знакомы и которая не могла не вызывать у них – хотя бы иногда – угрызений совести. После избрания Макрона слишком быстро заговорили об «интеллектуале во власти», облекая его всем мифическим престижем, который подразумевает это выражение (оригинальное видение, освободительная смелость, политика щедрости и т. д.). Однако очень быстро миф уступил место реальности. Макрон оказался усердным слугой сразу всех господ. Во время невероятно жестоких репрессий против движения «желтых жилетов» интеллектуалы в основном хранили молчание. Большинство из них, даже левые, так и не смогли понять – то есть не захотели понять – этот кризис. Несомненно, «Большие дебаты» между «интеллектуалами» и Макроном войдут в историю как печальная иллюстрация реального подчиненного положения интеллигенции, формально считающейся авторитетной частью общества. Мне сразу вспомнился Бонапарт среди улемов во время египетской кампании: колонизатор в окружении колонизированных, одураченных «авторитетов», ставших его орудиями. «Мы были пешками в его руках», – признавался Доминик Меда на следующий день после дебатов. «Это большая ловушка, мы пресмыкаемся, а он пиарится за наш счет», – написал другой их участник в СМС-сообщении, отправленном по горячим следам {115}. В дебатах принял участие даже Люк Болтански, который написал «Производство доминирующей идеологии» в соавторстве с Пьером Бурдье и, казалось бы, должен был понимать, к чему все идет.
Осознанию того неосознанного, о котором я говорю, мешало и то, что оно соседствовало с идеей о принципиальной аполитичности достойного наследника этой культуры – то есть о его принципиальном конформизме. «Может ли культурный человек быть политически активным?» – спрашивал в 1934 году филолог Конрат Циглер в названии своего эссе о Цицероне {116}. Как раз перед этим национал-социалистическое правительство уволило Циглера за то, что на протяжении предыдущих лет он отважно выступал за демократию. Заданный им вопрос имеет смысл только при наличии среди ученых негласного консенсуса о том, что ученый должен быть «вне политики». Однако всем известно, что быть «вне политики» значит служить порядку {117}. Поэтому над учеными и деятелями культуры всегда висит риск превратиться в «обслуживающий класс», согласно жесткой формулировке Тони Джадта {118}.
Возьмем, например, идеальный набор общих добродетелей из одноименной книги Карло Оссолы: приветливость, сдержанность, доброжелательность, искренность, верность, благодарность, предупредительность, учтивость, умеренность, невозмутимость и т. д. {119}. Чтобы обладать этими общими добродетелями клирика и культурного человека (заметим, что все эти добродетели – частные, то есть аполитичные, не предполагающие никакой гражданской активности {120}), нужно либо изначально быть на стороне господствующей силы {121}, либо принять ее сторону {122}. Так, в разгар немецкой оккупации латинист Альфред Эрну, тогдашний президент Академии надписей и изящной словесности, радовался, что, несмотря на «времена, не способствующие свободе исследований, которыми мы наслаждаемся», академики в своей работе «сохранили [свой] характер, определенный [их] способностями и миссией» {123}. В том же году Луи Боден выступал перед Ассоциацией Гийома Бюде и заговорил о смерти эллиниста Рене Гуасталла – преподавателя-еврея, трагически скончавшегося сразу после увольнения. Боден не нашел ничего лучше следующей формулировки, полной «сдержанности», «умеренности» и «невозмутимости»: «Он ушел в 1941 году, в расцвете лет, став, по-видимому, жертвой странного и беспокойного времени, в которое мы живем» {124}.
И даже самые активные леваки не нашли в чем упрекнуть Умберто Эко, который приветливо, учтиво и доброжелательно (с «кроткой доброжелательностью», сказал бы Марк Блок {125}) в 2011 году сидел рядом с Фредериком Миттераном, министром культуры в правительстве Николя Саркози, на лионском форуме, организованном газетой Libération для совместного обсуждения европейской культуры. «У нас по-прежнему имеется неосязаемая культура, порожденная религией, – объяснил Эко. – Я агностик и европеец, но меня всегда трогает зрелище собора в далекой стране». За этой банальностью скрывается целая операция правительственной полиции символов: некоторым иностранцам не место во Франции именно потому, что «Европа христианская». В то же самое время Клод Геан утверждал, что во Франции слишком много иностранцев, заявляя в своей полной неточностей речи о новых ограничениях права убежища {126}. Было бы неуместно обсуждать с Умберто Эко лагеря для мигрантов и беженцев, облавы, аресты и депортации, избиения и увечья (порой смертельные), говорить о разлученных влюбленных, о детях и подростках, которых забирают из школ {127} и держат в центрах задержания {128}. Само собой разумеется, что достойному наследнику европейской культуры, будь то профессионал или любитель, «клирик» или «мирянин», не пристало вмешиваться в острые вопросы своего времени. Это очень старое правило. Скалигер назвал Казобона, который имел смелость принять участие в религиозном диспуте в Фонтенбло (1600), ослом среди обезьян {129}.
Отсюда и неспособность многих «клириков» к диалогу. Их отказ от дискуссии, очевидно, имеет и обратную сторону, дополняющую собой жреческую позицию: это манера утверждать и бесконечно воспроизводить готовые догмы, которые не несут в себе глубокого смысла, а стало быть, легко повторяются. Например, отвечая на вопрос об отмене обязательного изучения латыни и греческого студентами-классиками в Принстоне {130}, Андреа Марколонго объясняет, что «древние языки ‹…› позволяют нам сформировать мысль и, таким образом, начать говорить “нет”». Непонятно, как именно древние языки получили такую привилегию? То же самое можно сказать о геометрии или о современных языках. Или вот: «Нужно изучать этот язык [греческий], который говорит нам о нас самих». Но почему нам о нас самих говорит столь древний язык? Этого мы никогда не узнаем. Такова догма об универсальности западного канона. А догмы, как и следовало ожидать, сопровождаются священными историями типа: «В Древней Греции Перикл платил людям, которые не могли себе позволить посещение театра, поскольку всегда говорил, что самые опасные граждане – те, у кого нет культуры. Он был прав». Перикл никогда не говорил ничего подобного. Это либо миф, либо проявление религиозного культа.