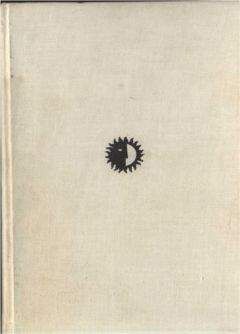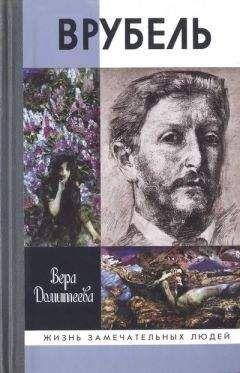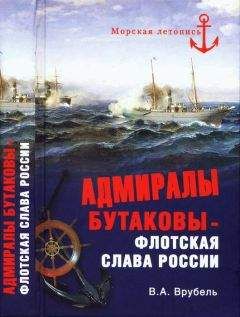Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
И.В. – Г.: Мы в «Зеркале» дали репрезентативный срез израильской прозы и поэзии, причем перевели на современный русский язык, и по крайней мере «одного ивритского писателя – Йоэля Хофмана – мы смогли вывести из анонимности. Это произошло, может быть, из-за общих формальных кодов, понятных современному русскому читателю. Это очень сложная ситуация, когда одна культура выбирает из другой нечто для влияния и возможности совместного существования. Для этого есть много причин, исторических и географических. Русская культура долгое время не была влита в общий мейнстрим мировой культуры, этот процесс начался, но еще далеко не завершен. Трудно требовать от Израиля быть пионером в этой области, и я не уверена, что из-за приезда сюда почти миллиона русскоязычного населения израильские поэты предпочтут Мандельштама Элиоту. Израильское культурное общество готово принять русскую культуру, уже разжеванную Западом. Но так называемые «русскоязычные» литераторы и деятели культуры относятся к израильской литературе еще более агрессивно и еще менее готовы ее принять. Одно ясно: культура должна выбирать сама, но ей должны быть предоставлены возможности выбора на высоком уровне – в серьезных изданиях, в качественных переводах, а не в олимовских сохнутовских патронажных местах.
А.Г.: Мы все равно находимся в положении бедных родственников. После падения Советского Союза мы – остатки проигравшей цивилизации, и, даже если бы мы стали писать по-английски и по-французски, на нас так же не обратили бы внимания. Несмотря на все сионистские декларации, израильское общество не проявляет к нам интереса. В нем, сознательно или бессознательно, невыговариваемо живет ощущение, согласно которому если ты представляешь из себя некую ценность, то ты никогда сюда не приедешь. Если ты значительный русский писатель, то твое место в России, если ты можешь сказать что-то внятное по-английски, то ты, безусловно, будешь жить в Англии или в Америке. Какими бы ни были твои патриотические чувства, ты не поедешь сюда, поскольку ни один творческий человек не станет так решительно ломать свою биографию. От творческого человека никто не ждет такого безумного и самокалечащего идиотизма и идеализма. Инстанции знают культурную историю этой страны, помнят, что знаменитые иностранцы, как правило, приезжали сюда потому, что были вынуждены это сделать, как Макс Брод и Мартин Бубер. Если бы их судьба не повернулась известным образом, никто из них не приехал бы. Брод был практическим сионистским деятелем в своей стране, а не просто сочувствующим, но приехал только тогда, когда жизнь вытолкнула его насильно. И истеблишмент прекрасно понимает, что, представляй мы из себя значительную ценность, мы, безусловно, реализовались бы, несмотря на наши убеждения, по месту своего языка. В этом смысле к нам существует некое фундаментальное недоверие, не побеждаемое никакими личными чувствами, никакими декларациями. Такое же отношение к здешним англоязычным писателям, например к Денису Силку, который занимает свое место в англоязычной поэзии. Я видел статьи о нем в крупных литературных журналах, но здесь он все равно относится к жалким отщепенцам. Наше общество не выработало института согласия по поводу культурных ценностей высокого ранга.
М.Г.: Ты можешь тысячу лет твердить израильтянину о величии русского искусства, но, когда он видит ту массу китча, которую привозят сюда художники в течение 30 лет, он видит своими глазами чрезвычайно убогую ситуацию: каждому из приехавших – художнику, режиссеру – была предоставлена возможность показать себя, – и девять десятых из них оказались абсолютно консервативными, отставшими на много лет от современного искусства. В тот момент, когда появился Гешер, он довольно быстро занял здесь свое место и получил поддержку государства. Через силу, через отрицание, через борьбу, но, когда я предложил свои вариации искусства, это стало интегральной частью израильского искусства в целом. Существуют конфликты внутри израильского искусства, но так или иначе все, что было привезено сюда серьезного, все это Израилем было принято.
Литераторы, которые претендуют здесь на признание и сетуют на израильское общество, совсем анонимны в своей языковой метрополии. В Израиле, как и везде, переводят все новое и знаменитое из других культур. Поэтому, когда мы говорим о ненужности русской культуры в Израиле, мы должны задать себе вопрос: оприходована ли эта культура самой огромной русской общиной в Израиле? Не оприходована так же, как и в метрополии. Какая же причина ей быть оприходованной на чужом языке собственно израильской культурой? Я знаю, что любая хорошая статья или проза, переведенная на иврит, будет перепечатана любым толстым журналом в Израиле.
И.В. – Г.: Конечно, мы не можем претендовать на вмешательство в достаточно новую структуру развития израильской культуры, живущей своими интересами, да мы и не стремимся, мы вполне самодостаточны. Мы только претендуем на то, чтобы на нас распространялись общие законы культурно-социальных достижений этого общества. На это мы имеем право, и, если этого не будет, мы выживем, но нам будет очень трудно. В итоге настоящая литература проникает и пропитывает и смежные культуры, несмотря на языковой барьер: ведь всякая живая культура, чем она мощнее, тем интенсивнее ищет чужого влияния.
«Неприкосновенный запас» № 3(5), 1999Вечное солнце субботнего дня
Беседа с Леонидом Гиршовичем
Леонид Гиршович – известный прозаик, автор нескольких книг, ставших заметным явлением современной русской словесности. Лучшим своим сочинением автор считает роман «Прайс», который скоро увидит свет. Двадцать лет назад Гиршович, музыкант по профессии, репатриировался в Израиль, где и приступил к литературной деятельности. В последние годы автор живет в германском городе Ганновере, работая скрипачом в оркестре тамошней оперы. Музыка дает средства к существованию, литература остается главным жизненным призванием. Наш разговор, в котором со стороны «Зеркала» приняли участие редактор журнала Ирина Врубель-Голубкина, Михаил Гробман и Александр Гольдштейн, происходит в конце июля, в канун субботы. За окном – неостывающий тель-авивский жар и полное отсутствие погоды. Самое время включать магнитофон.
Михаил Гробман: Ты плоть от плоти израильской литературной ситуации, ты постоянно приезжаешь сюда, получаешь наши газеты, здесь продолжают жить твои друзья и знакомые. Ты принадлежишь к этой среде, но видишь ее только раз в году – зрение успевает отвыкнуть от привычного пейзажа. Какое у тебя ощущение на сей раз, когда в страну приехала и осела в ней масса новых людей, открылись и закрылись всевозможные русские газеты и произошли другие события в том же роде?
Леонид Гиршович: Я живу в двойном временном измерении, в двух пластах, никоим образом друг с другом не соприкасающихся. Первый временной пласт – немецкий: размеренный, спокойный, рабочий, ремесленный. Второй пласт – это израильские летние каникулы, продолжающиеся уже 14 лет. Можно говорить о каком-то пунктирном движении зрения: лето – и кадр меняется, перемигнул – и увидел другую картинку, предварительно проспав свой год в германской летаргии. Но это касается в основном отношений с теми, с кем можно валять дурака в Иерусалиме. В этом смысле картинка получается весьма занятная, знакомые фигуры застывают в новых позах: этот с тем поругался, другой женился, и он же спустя полгода развелся и так далее. К счастью, смертей пока не было – исключая уже давнюю смерть старика Давида Дара. Вот я и ответил на вопрос, все остальное будет сплетнями, которых я не то чтобы избегаю, но стараюсь их сам не источать.
М.Г.: А эти позы различных фигур – они являются каким-то фактором того, о чем ты пишешь?
Л.Г.: Сейчас, пожалуй, нет, в настоящее время я сильно повернут к России. Израиль не отошел на задний план, но появились уже три точки опоры, включая город Петербург. Я умышленно называю его именно так, потому что Ленинград был отрезан и исчез для меня, а новые знакомые появились уже в Петербурге – городе, где вышла моя книга.
И.В. – Г.: Что это за петербургская среда?
Л.Г.: Я думаю, что познакомился с людьми, с которыми никогда не мог быть знаком раньше, ведь в Ленинграде я просто еще не писал. Я общался в свой приезд туда с теми, кто составлял значительную часть былого ленинградского андерграунда, а кроме того, с двумя – тремя любопытными московскими литературными персонажами. Повстречался я также кое с кем из своих коллег по симфоническому оркестру, которые хором и в розницу, по долгу службы и по велению сердца клеймили меня на прощальном собрании перед моим отъездом в Израиль. Так что были интересные психологические ощущения. Ну, а возвращаясь к литературе, отмечу беседы со столь нелюбезными Гробману акмеистами и псевдоакмеистами, из которых я очень чту Лену Шварц. Какие еще фамилии – вы спрашиваете. Ну, допустим, Кривулин, ранее шедший в одной обойме с Леной, так прямо и говорили Кривулин – Шварц, что, по-моему, не соответствует действительности.