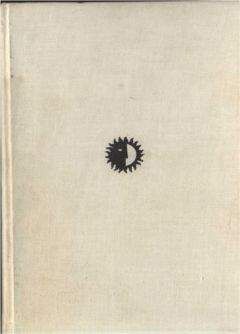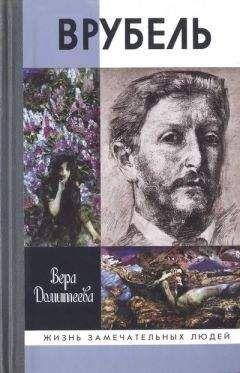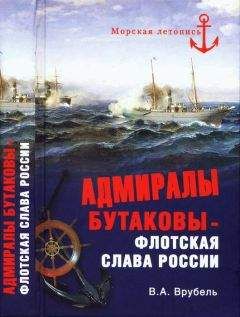Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
М. Г.: Мы его тоже опубликовали в «Зеркале». Чем конкретно тебя не устраивает Мамлеев? Темы, стиль?
Л.Г.: Ну, не нравится он мне – и все тут. Я ведь в чем-то мещанин. Я, извините, жажду катарсиса, а он не так уж здорово пишет, чтобы это меня по-настоящему захватило, переломило и переделало. Он по-своему очень гармоничен – некая убогость его тем адекватна убогости выражения. Ничего у меня не выходит с Мамлеевым. Мне вообще мало кто нравится, я очень привередлив. Но вот несколько дней назад я прочитал страниц пятнадцать совершенно эстетически чуждой мне прозы – «Змеесос» Егора Радова – и должен отметить, что это очень здорово, остроумно, талантливо. Я не верю, что он выдержит в таком роде и дальше…
А. Г.: Там все время попадаются отличные куски…
Л.Г.: Значит, я нахожусь в середине первого из них, и пока что это очень хорошо, я захвачен перспективой и даже отложил роман на Германию, чтобы его прочитать в немецкой тиши, как медведь в берлоге. Это куда более эффектно, чем Саша Соколов…
А. Г.: Которого Радов, судя по предисловию, не переваривает как жеманного писателя, больше всего озабоченного, где бы ему поточнее поставить запятую.
Л.Г.: Соколов интересен, я его хвалю, но у него, к сожалению, столько провалов. Они отчетливо видны в «Школе для дураков», и в «Палисандрии», которую мучительно невозможно читать. Он в ней замахнулся недурно, клинок блеснул на солнце, но рассыпался прежде, чем его опустили. Соколов начинал в 70-е годы, когда вокруг в литературе было не так много хорошего, и это на нем сказалось.
М.Г.: Леня, ты все время говоришь «нет», скажи, наконец, хоть раз «да» или полу «да». Кто же тебе нравится, кто тебе близок в литературе?
Л.Г.: А кому оно нужно, мое «да»? Это же будет совершенно банально. Ко всему прочему, я живу на необитаемом острове, мало что читаю…
И.В. – Г.: Ну, конечно, все прочитал…
Л.Г.: Вовсе нет. Вот попался мне в «Литературной газете» ругательный отзыв одного батюшки по фамилии Радлов, плохой и явно подтасованный отзыв на книгу Королева, которая, кстати, вместе с моим романом «Обмененные головы» выдвинута на Букеровскую премию. Я Королева как раз не читал, а хотелось бы, любопытно.
А.Г.: Скажите несколько слов про «Обмененные головы». Название повторяет Томаса Манна, его известную новеллу. Это что, возвращение былой любви?
Л.Г.: Отнюдь. По исходному заданию эта вещь шкурническая. Я хотел написать что-нибудь такое, что было бы легко перевести на немецкий; глядишь, книга разошлась бы и помогла мне покрыть расходы на квартиру. Так что в эстетическом смысле это был если и не шаг назад, то в сторону. Мой расчет, впрочем, не удался, должно быть, у замысла был некий изначальный изъян. Меня, однако, похвалил Лев Лосев, который мне очень нравится, пишет он блестяще, остроумно. Он в социальном плане может вызвать раздражение, потому что рядом с ним находится фигура Бродского, являющаяся объектом травматических комплексов для очень многих.
М.Г.: Это не комплекс, а элементарная зависть к успеху, лютая зависть. Лосев плох не потому, что рядом находится Бродский, а потому, что пишет, как профессор, профессор ведь не может писать хорошо.
Л.Г.: Наверное, Умберто Эко тоже писал плохо… Что же касается зависти, это действительно так. Я знаю одного писателя, который каждый год, как только становится известным имя очередного лауреата, уходит в запой.
М.Г.: Но я хочу сказать вот что. Оставим в покое завистников Бродского. Речь о другом. Тот же самый ИТР, о котором ты так замечательно выразился применительно к Булгакову, обожает Бродского, писает кипятком от Фазиля Искандера, упивается Цветаевой. И Бродский – он в огромной степени поэт русских итээровцев.
Л.Г.: Нет, не согласен. Во-первых, повторю, что у меня в самом деле нет тяги к поэзии. А во-вторых, разговаривая недавно с одним поэтом, который по поводу Бродского придерживается сходного мнения, я сказал: «Считайте, что у меня такой вкус, что я люблю Шопена. Бродский – такой вот Шопен… Конечно, я ничего не понимаю в поэзии, но для себя, для души, а не для учебы, я буду читать стихи двух – двух с половиной поэтов: Мандельштама, Бродского и оставшуюся половинку – Лену Шварц. Пусть я сам при этом окажусь в компании означенных выше итээровцев. Мою примитивную душу их стихи трогают, а гениального Хлебникова я читать не стану, разве что из любопытства, чтобы подивиться фонетическим и семантическим приемам.
М.Г.: Как ты себя определяешь в смыспе литературной географии? Ведь у каждого из нас есть своя принадлежность. С кем ты, в конце концов?
Л.Г.: Понятия не имею. Я одиночка, который обожает всех мирить. Когда-то я мечтал даже примирить Максимова с Синявским, было это еще при советской власти, которую я считал величайшим злом. В то время политическая позиция Максимова меня вполне устраивала, но вот эстетическая… Это та самая советская эстетика при антисоветских политических воззрениях, о которой мы говорили. Так что из примирения, разумеется, ничего не вышло. Если угодно, я за некую «соборность», хотя само это слово вызывает у меня чисто эстетическое отталкивание. Я доброжелателен, если меня не слишком рассердить. А любопытно, кстати, почему эта самая соборность так действует на нервы, а шиллеровско-бетховенское «Обнимитесь, миллионы!» – нет.
А.Г.: Раз уж возникла опять немецкая тема… В Германии живут сейчас и другие русские писатели – Хазанов, Горенштейн. Как вы к ним относитесь?
Л.Г.: Хазанова я совсем не люблю, он чудовищно вторичен и в прозе, и в публицистике. А к Горенштейну я стараюсь быть объективным.
А.Г.: Звучит не слишком комплиментарно.
Л.Г.: Именно так – стараюсь быть объективным.
М.Г.: Нам ясно, как ты относишься к соборности (хотя любишь, как ты сам сказал, читать Николая Федорова) и как воспринимаешь бетховенский призыв. Интересно было бы спросить у тебя еще об одной, помимо совокупного человечества, форме коллективизма – еврейском миньяне.
Л.Г.: О, здесь мы уплываем совершенно в иной мир, в иной океан. Я не знаю, зачем Господу Богу понадобилось создать евреев, не знаю, каким образом мое еврейство соотносится с моим писательством. Но я со своим еврейством ношусь как с писаной торбой, а поскольку я к тому же еще и сочиняю, то, значит, я в то же время еврейский писатель. Предлагаю на этом поставить точку. Смотрите, как все удачно совпало – такой изящный декаданс.
Когда магнитофон был выключен, а беседа текла по инерции, солнце уже клонилось в море, уступая место еврейской субботе, и на какое-то мгновение, мгновение перехода одного в другое, с этой субботой совпадая. То было вечное солнце субботнего дня, седьмого дня человечества, предельного и недостижимого дня, затерянного в расплавленном пространстве Средиземноморья.
«Зеркало» № 103, 1993 г.Связь времен
С профессором Зивой Амишай-Майзельс, директором института истории искусства Еврейского университета в Иерусалиме беседовали Ирина Врубель-Голубкина и Марина Генкина
Марина Генкина: Вы родились и выросли в Америке. Как случилось, что вы решили переехать в Израиль?
Зива Амишай-Майзельс: Верно, я родилась и выросла в Америке и получила сионистское воспитание и еврейское образование – на иврите. Мой отец был сионистом. Он был ивритским писателем, говорил на иврите дома. И он отдал меня учиться в иешиву, где преподавали на иврите. Это была современная иешива, не такая, как в Меа-Шеарим. Она начиналась с детского сада, мальчики и девочки учились вместе, полдня был иврит, полдня английский. Это была одна из лучших школ Нью-Йорка. На каникулах я ходила в летний сионистский лагерь. И, когда мне было семнадцать лет и я закончила гимназию, меня послали на лето в Эрец-Исраэль. И там у меня возникло очень странное ощущение. Как-то я бродила целый день одна по Тель-Авиву и вдруг почувствовала, что собираюсь здесь жить. Не то чтобы я заранее знала, что собираюсь это сделать, или что я вдруг полюбила Израиль, или Тель-Авив стал мне близок; и день был самый обыкновенный – ничего особенного не происходило; и это не было религиозным или сентиментальным переживанием. Я просто ходила по улицам, слушала иврит, рассматривала людей, и вдруг я почувствовала, что приехала домой. Потом я вернулась в Америку, какое-то время жила то там, то здесь, пока не переехала сюда окончательно.
Ирина Врубель-Голубкина: Вы из религиозной семьи?
З.А. – М.: Скорее в определенной степени соблюдающей традиции. Но отец был из очень религиозной семьи; он прошел путь от хасида до светского сиониста. В Америке мы жили как светские люди, а идея послать меня в иешиву возникла по двум причинам: во-первых, для изучения иврита, а во-вторых, чтобы впоследствии у меня была возможность сознательного выбора. Мама тоже считала, что выбор невозможен без знаний. Весь этот круг, к которому мы принадлежали в Бруклине, круг приверженцев иврита, гебраистов, придавал огромное значение ивритскому образованию. Мой отец, например, был редактором ивритского еженедельника «Почта». Этот еженедельник существует по сей день. Сегодня он направлен на израильтян, а тогда он был адресован именно этому кругу гебраистов. Многие из них – они сами или их родители – приехали из Европы, получив ивритское образование. И в 30-е годы, на фоне их желания дать своим детям сионистское и религиозное еврейское образование, возникли две иешивы – современные и очень высокого уровня. В сущности все сегодняшние иешивы выросли из них.