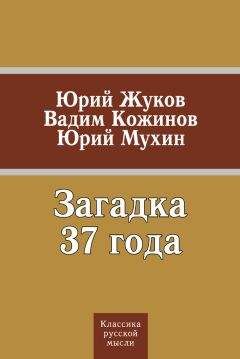Станислав Куняев - Жрецы и жертвы Холокоста. Кровавые язвы мировой истории
С особым благоговением местечковые поэты славили чекистов женского пола. Джек Алтаузен сделал это с непревзойденной искренностью в стихотворенье, названном простенько и со вкусом: «Чекистка».
Притворяться мне не пристало. Как я рад, что увидел ту, У которой должны кристаллы Занимать ее чистоту.
Тут надо пояснить, что под «кристаллами» он имел в виду драгоценные камни, для которых эталоном является «чистота чекистки». Автор горюет, что от тяжелейшей работы у его бриллиантовой подруги поседели волосы:
Почему пробивается проседь
У чекисток моей страны?
И дает ей клятву мужской и гражданской верности:
Потому что солгать ей — значит
Все равно, что солгать стране.
Когда Алтаузен сочинял эту оду, он одновременно со своими друзьями (М. Голодным, С. Кирсановым, И. Уткиным, А. Безыменским) подписал сочиненное ими же письмо в «Правду» о том, что хулиган и дебошир поэт Павел Васильев «уже давно прошел расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма», что «он избил поэта Алтоузена, сопровождая дебош гнусными антисемитскими и антисоветскими выкриками» и что «необходимо принять решительные меры». Письмо было опубликовано в «Правде» 24 мая 1935 года, и вскоре «решительные меры» в отношении Павла Васильева чекистами и «чекистками» были приняты.
Ближайший друг Павла Васильева Ярослав Смеляков, конечно же, зная стихи Алтаузена о чекистке, написал впоследствии стихотворение, являющееся историческим ответом алтаузенскому панегирику.
Жидовка
Прокламация и забастовка.
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.
Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая ни мать, ни жена —
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она…
Брызжет кляксы чекистская ручка.
Светит месяц в морозном окне,
И молчит огнестрельная штучка
На оттянутом сбоку ремне.
Неопрятна, как истинный гений,
И бледна, как пророк взаперти.
Никому никаких снисхождений
Никогда у нее не найти.
Все мы стоим того, что мы стоим.
Будет сделан по-скорому суд,
И тебя самое под конвоем
По советской земле повезут.
Ярослав Смеляков родился и вырос в глухом белорусском местечке и хорошо знал, какой «чистоты» были эти «бриллианты» с именами Розалия Залкинд-Землячка, Лариса Рейснер, Софья Гертнер, работавшая следователем ленинградского управления ОГПУ-НКВД, о которой «Аргументы и факты» в 1993 году (№ 19) сообщили: «Гертнер изобрела свой метод пытки: привязывала допрашиваемого за руки и за ноги к стулу и со всего размаха била туфелькой по «мужскому достоинству». Среди чекистов и заключенных ее звали «Сонька золотая ножка». В книге известного историка эмигранта С. Мельгунова «Красный террор», изданной на Западе в 1923 году, а у нас впервые в 1990-м, есть упоминания о многих «фуриях революции»: о Евгении Бош, свирепствовавшей во время гражданской войны в Пензенской области, о знаменитой своими жестокостями следователе Киевского ЧК по фамилии Ремовер, о бывшей фельшерице Тверской губернии Ревекке Пластининой-Майзель, ставшей женой архангельского чекиста Кедрова и одновременно сотрудницей архангельского ЧК. Все вроде бы правильно в этой книге, но поскольку послесловие к ней писал известный правозащитник А. Даниэль, становится понятным, почему она была издана в начале перестройки: у Мельгунова, а тем более у Даниэля нет ни слова о национальности этих чекистских ведьм. Более того, причины жестокости Октябрьской революции, гражданской войны и «красного террора» и осторожный историк Мельгунов, и комментатор Даниэль объясняют, цитируя неумные и смехотворные высказывания Максима Горького из его работы «О русском крестьянстве»: «Когда в «зверствах» обвиняют вождей революции — группу наиболее активной интеллигенции, я рассматриваю это обвинение, как ложь и клевету» <… > «Жестокость форм революции я объясняю исключительно жестокостью русского народа». А между тем в «Красном терроре» приводятся слова Зиновьева («меч, вложенный в руки ЧК, в надежных руках. Буквы ОГПУ не менее страшны для врагов, чем буквы В. Ч. К. Это самые популярные буквы в международном масштабе») или «стихотворенье» чекиста и «поэта» Эйдука, опубликованое в «Тифлисской книге» под названием «Улыбка Чекиста»:
Нет большей радости, нет лучших музык,
как хруст ломаемых жизней и костей.
Вот отчего, когда томятся наши взоры
и начинает буйно страсть в груди вскипать,
черкнуть мне хочется на вашем приговоре
одно бестрепетное: «К стенке! Расстрелять».
Но и Зиновьев, и Эйдук для Мельгунова и Даниэля всего лишь «коммунисты», не имеющие национальности. Правда, у чекистки из Киева Ремовер национальность есть — она «венгерка», видимо такая же, как «венгр» Бела Кун и «Матиас Ракоши». Но жесток именно русский народ, как это утверждает великий пролетарский писатель, в молодости крепко избитый деревенскими мужиками, которым не понравились речи молодого Пешкова, призывавшего их к революции. Ведь и другие классики наши тоже не стеснялись в изображении русской жестокости. Вспомним хотя бы персонажи из «Тараса Бульбы», из «Капитанской дочки», из «Тихого Дона». Но в то же время рядом с этими жестокими героями жили и князь Мышкин, и Платон Каратаев, и Максим Максимович — тоже русские люди. Да что говорить! Не жестоких революций в мире не было и не будет. Кроме одной, бескровной, ограничившейся голгофской жертвой. Горький не прав и потому, что, читая Пушкина, Гоголя и Есенина, понимаешь: русская жестокость — это стихия, мгновенно вспыхивающая от несправедливости и легко гаснущая. Народ живет чувством, всплеском отчаяния, отмщения, негодования. Они — эти всплески — естественны, а жестокость нашей революции XX века была неестественной, теоретически обоснованной, юридически обставленной, коммерчески организованной, тоталитарно выстроенной. Словами «большевизм» или «классовая борьба» здесь ничего не поправишь, они лишь кое-как маскируют жестоковыйную сущность силы, хлынувшую во власть в первые революционные годы.
А русская революция, конечно же, была неизбежной. Слишком долго правящее сословие России злоупотребляло крепостным правом, которое сыграло свою решающую роль в становлении Российской империи в XVI–XVIII веках, но после войны 1812 года потеряло свою историческую плодотворность и стало почвой для семян грядущих бедствий. Освобождение крестьян без земли в крестьянской стране еще глубже вбило клин в трещину русской жизни. Но если бы не местечковые дрожжи, вспучившие революционное тесто, наша смута была бы гораздо менее жестокой и кровавой, как и коллективизация. А «контрреволюции 1937 года» тогда вообще могло бы не быть.
Особую роль, более сложную и противоречивую, в идеализации революционного терроризма сыграло творчество Бориса Пастернака. На короткое время весной 1917 года он стал, как Леонид Канегиссер, поклонником Февральской революции красных бантов и в косноязычных, но страстных стихах проклял Ленина. Цитировать эти вирши бессмысленно, потому что они состоят из ленинских призывов «жги!», «режь!», «грабь!». Их якобы выкрикивает Ленин, едущий в Россию в пломбированном вагоне при помощи коварных немцев и «стрелочника-ганноверца», передвинувшего железнодорожные стрелки в нужном направлении. Пафос стихотворения был естественен — Пастернак, как и Канегиссер, происходил из добропорядочной известной буржуазной семьи, и ему было не по пути с местечковыми волчатами.
Однако через несколько лет Борис Леонидович эволюционировал и написал поэму «Девятьсот пятый год», в которой воспел знаменитую террористку Марию Спиридонову, участвовавшую в 1905 году в убийстве московского шефа полиции генерала Тепкова:
Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождях, ты из тех,
Кто бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.
Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из искры огнив,
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив…
Но в 1922 году большевики организовали судебный процесс против левых эсеров, и Мария Спиридонова, возглавлявшая этот спецназ революции, вновь, словно в царское время, пошла по тюрьмам и ссылкам вплоть до войны 1941 года. Последний срок она отбывала в орловской тюрьме, где и была расстреляна перед отступлением наших войск из Орла.