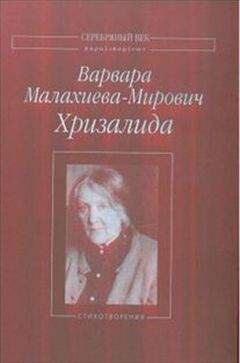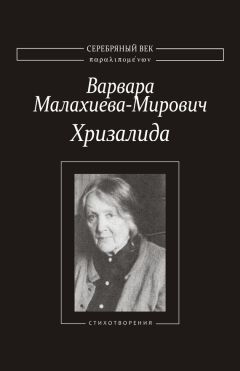Варвара Малахиева-Мирович - Маятник жизни моей… 1930–1954
Умерла Соня Голлидэй[286]. Еще молодая – лет 36–37. Талантливая, умненькая и глубоко незадачливая в театральной и личной жизни. “Зеленое кольцо”, “Белые ночи”, в Художественном театре большой успех. Ушла оттуда в самом начале карьеры – отличалась непримиримой гордостью, неспособностью приспособляться. Пошли скитания по провинциальным сценам. Нужда. Временами почти голод. Немилый, но крепко с ней связанный (“тайна сия велика”) муж, маленький актер и алкоголик.
Как недавно и как хорошо прочла она (наизусть) страничку из Толстого о детском романе Наташи, где “поцелуйте куклу!”. Было это за столом у Аллы Тарасовой, экспромтом, по моей просьбе. Маленькая, темноволосая, темнобровая – такие изящные брови – темноглазая, Соня Голлидэй перевоплотилась на те мгновения в Наташу Ростову. Розовое платье все в оборках, полудетские, горящие “отчаянным оживлением” глаза при сдержанности мимики и тона, вдобавок прическа с висящими по-английски локонами дополняли иллюзию. Так ярко светило солнце на стол с виноградом, с яблоками. Мы начали строить планы, как “вывести Соню Голлидэй в свет”. Очень одушевилась Алла желанием помочь беспомощной и трагически неудачливой подруге (по школе Художественного театра). И я придумала познакомить ее с Крестовой, для иллюстрации (платной) лекций о классиках в разных учреждениях. И это как будто пошло на лад. С большим успехом она выступала несколько раз и еще где-то. Но все побаливала “печень”, а это уже был рак желудка, последняя его стадия.
И вот нет Сони Голлидэй под солнцем наших стран. И – почему она, а не я? Мне так пора, а ей, казалось бы, так рано. Она как будто и совсем не жила; что-то было в ней трагически неутоленное и такое неразрешенно-несчастливое.
Трагедия без катарсиса.
И вот сожгли эти глаза, брови и милый молодой голос. А Соня-то, Соня где? Будем ли это когда-нибудь знать, Господи?
11 сентябряУ Ефимовых. Синеокий, седой уже, старый, но не старик, могучего сложения, начинающий жиреть красавец выбежал в одних трусиках. “Здравствуй! Здравствуй!” Это к старой поэтессе, с которой никогда не был на “ты”. И дальше – громко гогоча, размахивая кистью, показывая все еще белые, еще целые зубы: “Как хорошо, что пришла. Вот мило. Отлично, в самом деле. Пойдем обедать. Впрочем, нет, сначала сюда, смотри, что я сотворил!” Поэтесса покорно двинула старушечьи оплывшую фигуру, увенчанную седеющей головой в совершенно круглой, очень старой шляпе, с болезненно-терпеливым выражением лица в комнату, заставленную скульптурой, завешанную рисунками и картинами вперемежку с какой-то поломанной, несуразной мебелью, рамами, кусками холста.
На полу были раскинуты большие картины – лев, телец, орел и ангел.
– Это поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще, – с жадно засветившимися глазами могучим бархатистым басом возгласил, размахивая кистью, голый красавец и пытливо заглянул в лицо старухе.
– Вас, может быть, смущает, что я так, в трусиках? – вдруг застенчиво спросил он, переходя на “вы” и учтя застывшесть ее лица.
В дверях появилась в старом капоте с некрасивым, но умным, тонким и обаятельно милым лицом жена скульптора, тоже талантливая, но малопризнанная художница. Она светло улыбнулась поэтессе:
– Что тут может смущать? – обратилась она с легкой укоризной к мужу. – Ты уже всех приучил к тому, что ходишь нагишом.
Поэтесса внимательно посмотрела на трусики; потом на картинно-красивую голову скульптора.
– Мне все равно, как вы одеты, – сказала она, задумчиво наклоняясь над картинами.
– Хорошо? Звери-то, как по-вашему, удались? – жадно спросил художник.
– Да-а… Только в зверях этих мало небесного. И поют, и взывают, и глаголют они об одном – все о том же, о чем ваши быки, козлы и кабаны.
– Но – позвольте! Куда же льву девать зубы? Открыл пасть, чтобы славословить Творца, а зубы тут как тут – торчат. Неужели без зубов его писать?
– С менее ужасными зубами. И в глазах поменьше бы свирепости.
Поэтесса вспомнила знакомого кота, выходившего на закате в Сагамилье в Финляндии под можжевельники провожать солнце. Про него Елена Гуро написала “.очарованный молится кот”. Но не сказала гостья об этом художнику, не хотела обидеть. Да разве опишешь, как самому представляется молящийся лев.
– И орел похож на ворона, – тоном бесстрастно-кротким сказала она.
Художник детски огорчился.
– А ведь правда! – воскликнул он, схватывая с полу картины. – Но можно ведь переделать.
– Пойдемте обедать, – молодым музыкальным голосом позвала жена.
Артистически курчавились еще не седые волосы над ее маленьким с заостренным подбородком личиком. Глаза зеленели подвижной мыслью, грустью, пытливым вниманием.
Поэтесса почувствовала прилив величайшей, любующейся симпатии к ней и сразу поняла, что именно вот такую, вот эту женщину должен был полюбить и во всех своих изменах не разлюбить избалованный женщинами красавец, полуапис, полумладенец. И как он прислушивался к каждому слову жены, как приглядывался к каждой мине подвижного лица, когда она говорила о его творчестве.
Обедали в кухне, где также со всех сторон смотрели на обеденный стол из-за кухонной посуды фаянсовые бабы, акробатка, олень.
За обедом Ефимов горячо рассказывал о своих успехах и заработках.
“…Теперь на Кузнецовской фабрике мы с Ниной такие блюда распишем, – всю Европу удивим. А на венецианской выставке моего козла купили. И кабана. Да-да-да. 300 рублей за кабана”.
Поэтесса заинтересовалась кусочком жира, оставленным на блюде как нечто несъедобное. Она питалась кое-как, не хватало жиров, и, когда видела жирное что-нибудь, ее непреодолимо к таким веществам тянуло последнее время. В этой великолепной богеме, где можно было ходить голым, не стесняясь наготы, не подумать о замене старого затасканного халатика, получив тысячу рублей за роспись блюда, и где так открыто можно было говорить о своей жажде славы, было ничуть не неловко попросить у хозяйки этот соблазнительный, а для них несъедобный кусочек жиру. Но в этот миг из-за вопиющих зверей у хозяина трапезы мелькнула мысль: “А ведь старушка, пожалуй, подголадывает”. – Лицо его стало испуганным и добрым. Он начал накладывать на тарелку гостьи что попало – помидоры, груши – и был огорчен, когда она остановила его движением руки и укоризненным взглядом.
После обеда жена, по предписанию врача, должна была с час полежать. Она пригласила на единственное в доме ложе и гостью. Они легли в разных концах его и приготовились к доверительному, откровенному, женскому разговору. Но вдруг в их комнату бурно ворвался Ефимов, что-то подмостил к ложу, какую-то табуретку, и возлег рядом с гостьей, прижавшись к ее плечу. Она удивленно посмотрела на жену, потом повернулась к Ефимову. На вершок от ее глаз доверчиво, ласково, радостно синели совершенно детские глаза. Жена смотрела снисходительно на милую проказу своего enfant terrible[287]. Поэтесса подумала: вот чем хороша старость – 15, 20 лет тому назад я бы рассердилась, обиделась или взволновалась бы от этой близости. И как все равно сейчас.
Через пять минут ее сосед с каким-то грустным вздохом (может быть, также на тему о старости) вскочил и стал прилежно перерисовывать орла, повторяя: “А ведь правда правду она сказала – смахивает на ворона”.
16 сентября. 4 часа дня. Красные воротаРазруха, облупленные потолки. Дыбом вставшие плитки паркета, в окнах подпорки из бревен в виде виселицы. Трещины, расселины со всех сторон.
Медленно надвигающаяся катастрофа становится буднями. К ней привыкают, как привыкают к необходимости рано или поздно умереть.
Но вырывается порой (у Людмилы Васильевны, например): “Пусть бы скорее все рушилось, не хочется жить”. Это “не хочется жить” слышала вчера от Аллы. Вялое равнодушие к тому, жить или не жить, и к судьбам театра, по ее словам, чаще всего встречается в товарищах ее возраста (30-36-37 лет). Она приписывает его нервно-психическому надрыву в юности, в эпоху гражданской войны. А потом – отсутствие поднимающей дух творческой работы, отсутствие дирижера в этом оркестре: “Станиславский стар и не может вести твердой линии. Вокруг интриганство, зависть, мелкие счеты, разгул аппетитов и страстей”.
Вчера подробно и картинно рассказала Аллочка о том, как в батайские дни Ростова с Алешей во чреве за два месяца до родов вывезла в Крым еще не оправившегося от тифа мужа. Сколько моментов безнадежности, безвыходности, какое громадное напряжение душевных и нервных сил. Моталась между домом, где больной лежал в полубессознательном состоянии, и вокзалом, где на поезда никого уже не принимали, пролезала под вагонами, останавливала за уздцы лошадь извозчика, который не хотел везти их. В дороге – ожидание, что вот-вот нападут банды Зелененького, Махно и т. д. Спанье вповалку на нарах, насекомые.
16 тетрадь
27.9-24.11.1934