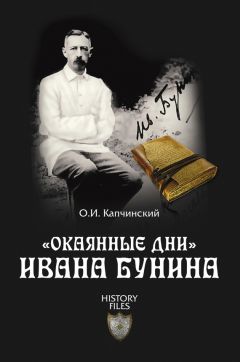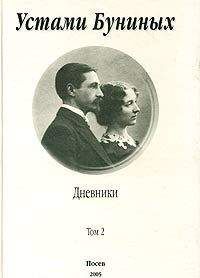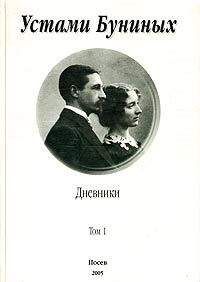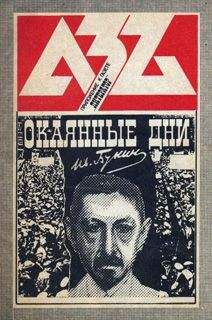«Окаянные дни» Ивана Бунина - Капчинский Олег Иванович
Весьма характерной в данной связи являлась судьба большевика с 1903 года Михаила Земблюхтера (1886–1965). Уроженец Житомира, Земблюхтер с конца XIX века проживал в Одессе, где трудился на разных предприятиях, участвовал в революционном движении и сыграл не последнюю роль в первом захвате большевиками города в 1918 году. Во второй же советский период, вернувшись в Одессу летом 1919 года, он стал зампредом губернского Совета народного хозяйства, однако, в отличие от предыдущего раза, эвакуироваться не успел. Как свидетельствуют личные биографические материалы Землюхтера, которые в 1997 году передала автору его наследница – племянница жены, он был арестован осенью 1919 года контрразведкой, но за крупную сумму денег, внесенную подпольным Красным Крестом, был освобожден. После возвращения красных в Одессу Земблюхтер возглавил губернское коммунальное хозяйство, а спустя 1,5 года аналогичную должность занял уже в НКВД РСФСР.
За крупную взятку был освобожден и сидевший в Бульварном полицейском участке Александр Рекис. Ранее Рекис был членом коллегии губотдела юстиции и, как мы уже писали, летом 1919 года инспектировал Губчека и тюрьму, занимаясь их «разгрузкой», а еще раньше, в период интервенции, являлся казначеем подполья. Арестовали Рекиса вечером, когда он штудировал учебник по римскому праву. Без отрыва от службы, а теперь и подпольной работы он получал образование на юрфаке Одесского университета. Но самым курьезным в истории с его арестом было то, что первоначально его обвинили, что он никто иной, как прибывший нелегально из Москвы… Яков Блюмкин [302]. Рекис был практически ровесником, а может быть, еще и действительно напоминал знаменитого левого эсера и чекиста. Кстати, не исключено, что слухи о возвращении в Одессу «друга литераторов» могли дойти до Валентина Катаева, что впоследствии дало ему еще один повод рассказать в вызвавшей скандал в чекистских кругах повести «Уже написан Вертер», опубликованной в июньском номере «Нового мира» за 1980 год, а вновь вышедшей лишь 9 лет спустя [303], об этом событии, хотя его Наум Бесстрашный, у которого, в отличие от других героев повести, писатель полностью сохранил биографические данные Блюмкина, лишь его «переименовав», прибывает в большевистский период и, соответственно, не с разведывательными, а с карательными целями.
12 февраля 1920 года одесские «Известия» сообщили о некоей сестре милосердия из тюремной больницы, являвшейся осведомительницей контрразведки, чей донос о службе того или иного арестанта у большевиков нередко стоил ему жизни. Так, по ее доносу тюремщиками был избит партиец Д. Лонинов (Трахтенберг), так как она сообщила, что он видный чекист, хотя на самом деле он действительно возглавлял Чрезвычайную комиссию, только не по борьбе с контрреволюцией, а по снабжению! Избежал расстрела он лишь благодаря крупным взяткам. С другой стороны, бывшему чекистскому караульному Шихману через взятку этой же самой медсестре удалось вместо смертной казни получить 10 лет каторжных работ.
Красная армия приближалась к Одессе. Деникинские власти объявили сбор средств в пользу своей армии. Однако буржуазия тратиться и на куда более близких, чем большевики, белогвардейцев не особенно торопилась, тем более отдача представлялась весьма туманной. Тогда было решено в обязательном порядке обложить владельцев торгово-промышленных предприятий. Однако созданная комиссия из наиболее влиятельных лиц самыми крупными суммами обложила коммерсантов, которые на поверку оказались «мертвыми душами», то есть либо к тому времени убыли из Одессы, или их вообще уже не было в живых [304]. Таким образом, поведение данной комиссии не сильно отличалось от поведения аналогичной при большевиках.
В связи с указанными обстоятельствами многие сотрудники уже разлагающихся под воздействием складывающейся обстановки контрразведки, государственной стражи и уголовного розыска не только стали вовсю брать взятки у схваченных подпольщиков и их родственников, что имело место и раньше, но и прибегли к одному из главных методов криминального мира – начали арестовывать обеспеченных людей, которых хоть как-то можно было связать с большевиками, и требовать у них большие деньги.
Лекишвили писал:
«Контрразведка закружилась в бешеном вихре арестов, хватая каждого встречного и поперечного. Тюрьмы набивались народом, подчас чуждым не только партии, но и советской власти вообще. Запасаясь деньгами для предстоящей эмиграции, господа офицеры не стеснялись сажать для наживы зажиточных обывателей, вымогая за их освобождение крупные взятки. Вылавливая такого рода „политических преступников“ с помощью своих агентов, раз в нашу камеру они вкатили одного толстяка, обвиненного в старой подпольной работе. Завидя меня, он бросился ко мне: „Так вот из-за кого я должен сидеть и страдать, какой я „подпольщик“, – ревел он в исступлении“» [305].
Дело в том, что он имел несчастье быть хозяином того дома, где в конце 1918 года в его подвале большевиками была организована явка. По заданию Центра для ведения агитации среди солдат и матросов войск интервентов было решено открыть в центре города кафе. Член подпольного ревкома уже упоминавшийся Тенгиз Жгенти передал Лекишвили деньги, и он вел переговоры с домовладельцем, и тот, конечно, ничего не подозревая, уступил свое помещение за солидную сумму [306].
Возможно, что арестовывавшийся в конце 1919 года контрразведкой журналист и писатель Лазарь Осипович Кармен (Коренман) – отец знаменитого кинематографиста Романа Кармена, активно печатавшийся в большевистских газетах, но не состоявший в компартии и не занимавший никаких постов, – тоже стал лишь жертвой вымогательства. Тяготы пребывания писателя в тюрьме привели его к смерти спустя два месяца после освобождения, последовавшего в феврале 1920 года. Среди персонажей его произведений немалое место занимали одесские воры, напоминающие Мишку Япончика. Если насчет мотивов ареста Кармена наше предположение верно, то можно сказать, что он на себе испытал некоторые методы работы своих героев, правда, от рук… сотрудников правоохранительных органов. Также, по всей видимости, в целях «выкупа» арестовывался одной из правоохранительных структур по формальному обвинению в постановке революционной картины (которой на самом деле являлась экранизация «Рассказа о семи повешенных» Леонида Андреева) режиссер Петр Чардынин, работавший в русской кинематографии с 1908 года.
Аресты состоятельных людей с целью получения выкупа были не просто признаком разложения белых властных структур и увеличивающейся в их деятельности коррупционной составляющей, но и в определенной мере влиянием одесского уголовного порядка, состоявшего в обложении местных коммерсантов «данью».
Впрочем, нужно отметить, что взятки работникам правоохранительных органов от большевистского Красного креста во многом тоже имели отношение к буржуазии: ведь большую часть средств этой партийной организации составляли ценности, реквизированные в советский период у зажиточных горожан; и в результате к отдельным представителям белых властей через большевиков поступали деньги той же одесской буржуазии.
«…и вступал с некоторыми видными деятелями коммунизма в торг…»
Хотелось бы остановиться на некоторых бросающихся в глаза особенностях вымогательства у арестованных и сопоставить коррупцию в правоохранительных органах и спецслужбах противоборствующих сторон в 1919 году. Вера Муромцева-Бунина вспоминала, что из ЧК чаще всего удается освободить за деньги [307]. Такие же сведения содержатся в материалах деникинской Особой комиссии, что не было обойдено вниманием С. П. Мельгунова [308]. Однако выкуп, как правило, касался буржуазии, что являлось своеобразной «контрибуцией» советских властей – как правило, вполне легальной, вписывающейся в экспроприаторскую политику новой власти. Не случайно расстрелы представителей крупной буржуазии были произведены большей частью лишь в июле, когда на Одесчине был официально объявлен Красный террор, а в остальных случаях коммерсантам сохраняли жизнь, а то и выпускали на свободу. Однако размер «выкупа» был довольно большим, и представителям слоев населения с более скромными денежными средствами, попадавшим в ЧК, вносить его было проблематично, поэтому зачастую они стремились дать меньшую сумму, но уже тому или иному следователю и, естественно, не в пользу «рабоче-крестьянского государства». Иногда все зависело от личности следователя, им это удавалось.