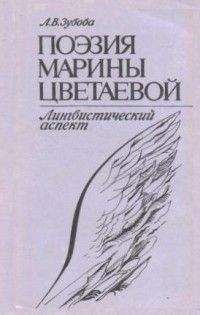Людмила Поликовская - Тайна гибели Марины Цветаевой
Давно Цветаева не была в таком обществе. Стараниями Эренбурга перед ее приездом в Берлине вышли две ее книги «Стихи к Блоку» и «Разлука». Их здесь знают и ценят. Андрей Белый откликнулся на «Разлуку» восхищенной рецензией.
Эренбурги уступили Марине Ивановне с Алей одну из своих комнат в пансионе, рядом с кафе, в котором собирались русские литераторы. Однажды за столик, где пили пиво Эренбург и Цветаева, подсел молодой человек — Абрам Григорьевич Вишняк, по прозвищу Геликон — так называлось издательство, которое он возглавлял. Красивый, издающий хорошие книжки, сам пытающийся писать стихи, переживающий личную драму — измену жены, — и Цветаева увлеклась. Есть все основания полагать, что именно к нему обращено стихотворение «Ночные шепота: шелка / Разбрасывающая рука. / Ночные шепота: шелка / Разглаживающие уста». Во всяком случае, достоверно, что Цветаева написала Геликону девять писем. В 1933 году она перевела их на французский: «9 своих собственных настоящих писем и единственное в ответ — мужское — и послесловие…» [19]
В этих письмах есть и признания в любви: «Все последние годы я жила настолько иначе, настолько сурово, столь замороженно, что теперь лишь пожимаю плечами и удивленно поднимаю брови: — это я?? Вы меня разнеживаете, как мех, делаете человечнее, женственнее, прирученнее<…>
Мой неженка (тот, кто делает меня нежной, кто учит меня этому чуду: быть нежной, нежить…), Вы освобождаете во мне мою женскую суть, мое самое темное и наиболее внутреннее существо», «Дорогой друг, я лишь начинаю Вас любить, еще ничего нет (все будет!)» Но в целом эти письма мало похожи на любовные — скорее дневник, который пишется больше для себя, нежели для возлюбленного. Цветаева постоянно говорит о себе. Она пытается объяснить свое отношение к жизни, к любви, к стихам, свою особостъ. Но Геликон, как и большинство мужчин, мало нуждается в этом, равно как и в ее «безмерности».
Когда через 10 лет они встретятся в Париже, Цветаева — во всяком случае, в первый момент — не узнает Геликона, что, естественно, его обидит. Но вот объяснение Цветаевой: «Для того чтобы я, еще вчера не знавшая ничего другого, кроме Вас, могла сегодня не узнать Вас, нужно было именно, чтобы вчера я не знала ничего другого, кроме Вас. Мое забвение Вас — не что иное, как еще один титул благородства. Удостоверение Вашей ВЕЛИЧИНЫ в прошлом.
Посмертная месть? Нет, в любом случае — не моя. Что-то (очень значительное!) мстит за меня и через меня. Вы хотите знать этому имя, которое я пока еще не знаю? Любовь? Нет. Дружба? Тоже нет, но совсем близко: душа. Раненная во мне и во всех других женщинах душа. Раненная Вами и всеми другими мужчинами, вечно ранимая, вечно возрождающаяся и в конце концов — неуязвимая.
Неизлечимая неуязвимость.
Это она мстит, и, покинув Вас, в ком она обитала и кого обнимала собою, больше, чем море объемлет берег, — и вот Вы нагой, как пляж с останками моего прилива: сабо, доски, пробки, обломки, ракушки —
мои стихи, с которыми Вы играли, как ребенок, — а Вы и есть ребенок, — это она мстит, ослепив меня до такой степени, что я забыла Ваши видимые черты, и явив мне подлинные, которые я никогда не любила».
Художественный текст? Да, конечно. Но Цветаевой всегда надо было окунуться если не в стихи, так в прозу, чтобы понять действительность. Суть ее отношений с Вишняком и причина их — скорого — разрыва здесь объяснены лучше, чем это мог бы сделать самый лучший ее биограф.
7 июня в Берлин приехал Сергей Эфрон. Очевидно, в самый разгар романа Цветаевой с Вишняком. Впоследствии Ариадна Сергеевна расскажет о первой встрече родителей: «Солнечный день, пустынная привокзальная площадь, одинокая фигура бегущего к нам мужчины… Сережа<…> добежал до нас с искаженным от счастья лицом, и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно оцепеневшие. Долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез». Хотя Але было тогда 9 лет, нет оснований не верить ее свидетельству.
О пребывании Эфрона в Берлине известно немногое. Цветаева познакомила его с другим участником «Ледяного похода» — Романом Рулем, который так описал их встречу: «Эфрон был весь еще охвачен белой идеей<…> Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что все, что было, неправильно начато, вожди армии не сумели сделать ее народной, и потому белые и проиграли. Теперь я был сторонником замирения России. Он — наоборот — никакого замирения не хотел, говорил, что Белая армия спасала честь России, против чего я не возражал<…> М.И. почти не говорила, больше молчала. Но была,
конечно, не со мной, а с Эфроном, с побежденными белыми».
Ариадна Эфрон вспоминает, что отец в Берлине был молчаливый, задумчивый, грустный. В скученной обстановке «русского Берлина», где все обо всех знали, до него, конечно, не могли не дойти слухи об отношениях Цветаевой с Вишняком. (Да и сама Марина Ивановна не очень-то умела, да и не всегда хотела скрывать свои романы.) Через год он напишет Волошину: «Марина — человек страстей<…> Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова<…> Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно. Когда я приехал встретить Марину в Берлин, уже тогда почувствовал сразу, что Марине я дать ничего не могу. Несколько дней до моего прибытия печь была растоплена не мной».
Через две недели он уехал в Прагу. Один. Глубоко уязвленный и разочарованный во всех своих надеждах.
В Берлине в жизни Цветаевой произошло еще одно судьбоносное событие — она получила письмо от Пастернака. В Москве они были шапочно знакомы, но стихов друг друга почти не знали. Уже после отъезда Цветаевой Пастернак прочел «Версты» и буквально заболел этой книгой. Он прислал Цветаевой письмо настолько же восторженное, насколько путаное от буквально захлестывающих его эмоций. Он просит разрешения продолжать переписку. И в тот же день отправляет ей свою книгу «Сестра моя — жизнь». Цветаева не замедлила с ответом. Она счастлива, как никогда в жизни. Судьба не баловала ее вниманием поэтов. До Ахматовой она так и не достучалась (Анна всея Руси вовсе не желала подвинуться на троне), Блок ее не заметил, мнение Брюсова она презирала, «божественный мальчик» Мандельштам вовсе не понимал ее стихов, Бальмонт относился к ней с нежностью (равно как и она к нему)… но что такое Бальмонт в сравнении с Цветаевой? А тут лучший лирический поэт России (Цветаева блестяще докажет это в статье «Световой ливень») не только восхищен ее стихами, но — главное — понимает их так, как понимала она сама. Первый раз в жизни она почувствовала, что духовно не одинока. Так завязалась переписка, длившаяся 14 лет, прошедшая самые разные стадии, но всегда занимавшая во внутренней жизни Цветаевой главенствующее место.
В том же письме Пастернак сообщал ей, что скоро приедет в Берлин. И действительно, в 20-х числах августа он уже ходил по берлинским мостовым… Но 1 августа Сергей Эфрон встретил Цветаеву на вокзале в Праге. Почему было не дождаться?
Вот что пишет по этому поводу Ариадна Эфрон: «В ее отъезде из Берлина накануне прибытия туда Пастернака было нечто схожее с бегством нимфы от Аполлона, нечто мифологическое и не от мира сего — при всей несомненной разумности решения и поступка — ибо в Чехию следовало ехать до наступления осени, чтобы устроиться и приспособиться в предстоящей деревне (жизнь в Праге была не по карману. — Л.П) прежде, чем наступит зима<…>
А может быть, то был — не менее мифологический — бег с уже распознанным, уже достоверным сокровищем в руках, присвоение его, умыкание, нежелание разделять его со всеми в безвоздушном пространстве, окружающем столики «Прагердиле» [20]; та боязнь посторонних глаз, сглазу, которые столь были присущи Марине с ее стремлением и при-
верженностью к тайне обладания сокровищем: будь оно книгой, куском природы, письмом — или душой человеческой<…> Ибо была Марина великой собственницей в мире нематериальных ценностей, в котором не терпела совладельцев и соглядатаев».
А вот что сама Цветаева пишет Пастернаку «Мой любимый вид общения — потусторонний: сон: видеть во сне. А второе — переписка. Письмо как некий вид потустороннего общения, менее совершенное, нежели сон, но законы те же. Ни то, ни другое — не по заказу: снится и пишется не когда нам хочется, а когда хочется: письму — быть написанным, сну — быть увиденным. (Мои письма — всегда хотят быть написанными).
<…>Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой: тогда встреча над. — Закинутые лбы!»
И в другом письме (уже из Чехии): «Последний месяц этой осени (1922 года. — Л.П.) я неустанно провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот ожидание поезда на нашей крохотной станции. Я приходила рано, в начале темноты, когда фонари загорались. (Повороты рельс). Ходила взад и вперед по темной платформе — далеко! И было одно место, фонарный столб — без света — это было место встречи, я просто вызывала сюда Вас, и долгие бок о бок беседы бродячие».