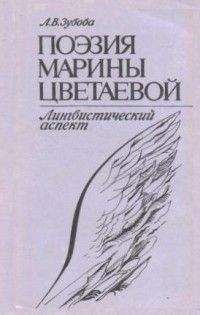Людмила Поликовская - Тайна гибели Марины Цветаевой
Эта книга для меня священная, это то, чем я жила, дышала и держалась все эти годы. — Это не КНИГА.
<…>Не горюйте об Ирине, Вы ее совсем не знали, подумайте, что это Вам приснилось, не вините в бессердечии, я просто не хочу Вашей боли, — всю беру на себя!
<…>Не пишу: целую, я вся уже в Вас — так, так что у меня уже нет ни глаз, ни губ, ни рук, ничего, кроме дыхания и биения сердца.
Марина»
… А пока Цветаева пишет цикл «Георгий», где образ мифического героя Георгия Победоносца переплетается с образом Сергея Эфрона.
Не тот — высочайший,
С усмешкою гордой;
Кротчайший Георгий,
Тишайший Георгий,
--------- —
Ты больше, чем Царь мой,
И больше, чем сын мой!
Лазурное око мое в вышину!
Ты, блудную снова
Вознесший жену.
Если верить Цветаевой, написав строчку: «Так слушай же!..», она получила письмо от мужа. Эренбург выполнил свое обещание. Сергей Эфрон оказался не
«за облаком», а всего лишь «за морем», точнее, в Константинополе, куда он перебрался вместе с другими белыми офицерами летом 1921 года. Откликнуться он не замедлил:
«Мой милый друг — Мариночка,
— Сегодня я получил письмо от Ильи Г<Григорьевича>, что Вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости.
<…>Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего не буду от Вас требовать — мне ничего и не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. Остальное — я это твердо знаю — будет. Об этом и говорить не нужно, п.ч. я знаю — все, что чувствую я, не можете не чувствовать Вы.
Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет встреча грядущая. Когда я о ней думаю — сердце замирает страшно — ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. Но я суеверен — не буду говорить об этом. Все годы нашей разлуки — каждый день, каждый час — Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать.
Радость моя, за все это время ничего более страшного (а мне много страшного пришлось видеть), чем постоянная тревога за Вас, я не испытал. Теперь будет гораздо легче — в марте Вы были живы.
— О себе писать трудно. Все годы, что мы не с Вами — прожил, как во сне. Жизнь моя делится на две части — на «до» и «после». «До» — явь, «после» — жуткий сон, хочешь проснуться и нельзя. Но я знаю — явь вернется.
<…>— Что мне написать Вам о своей жизни? Живу изо дня в день. Каждый день отвоевывается, каждый день приближает нашу встречу. Последнее дает мне бодрость и силу. А так — все вокруг очень плохо и безнадежно. Но об этом всем расскажу при свидании.
<…>Берегите себя, заклинаю Вас. Вы и Аля — последнее и самое дорогое, что у меня есть. Храни Вас Бог.
Ваш С.»
«С этого дня — жизнь! Впервые живу», — записывает Цветаева в дневнике.
Письмо от Эфрона пришло 14 июля, а уже 15-го начат цикл «Благая весть». (Все важнейшие события у Цветаевой переливались в стихи, в стихах — в полную силу — она и переживала, и осмысляла случившееся.) Для выражения радости — целая цепочка сравнений и метафор: «Как топором —/ Радость!», «…быком / Под обухом счастья!», «…по эфес / Шпагою в грудь — /Радость!» Но радость не только за мужа — она радуется спасению всех белогвардейцев, которым удалось живыми покинуть Россию. О кораблях, вывозивших Белую гвардию из Крыма, она говорит: «О крылья мои, / Журавли-корабли!». Как и «Лебединый стан», «Благая весть» — прославление мужества воинов Белой гвардии («Меж дулом и хлябью — / Сердца не остыли, / Крыла не ослабли…»). И уверенность, что дело, за которое они сражались, вовсе не бесславно погибшее («Тогда по крутому/ Эвксинскому брегу / Был топот Побега, / А будет Победы»).
Узнав, что муж жив, Цветаева — ни минуты не колеблясь — принимает решение: ехать к нему. Но, увы, денег на отъезд нет. По счастью, начался нэп, открылись частые издательства, и Цветаевой
удается — впервые после 1913 года — издать две книги: «Конец Казановы» (третье действие пьесы «Феникс») и сборник стихов «Версты», получить аванс за сказку «Царь-девица». Но этих денег мало, она продает вещи: Сережину шубу, старинную люстру — почти ничего уже не осталось, все спущено в голодные годы. Мечтает достать денег хотя бы на билеты.
Но и на это потребовался почти год. Год, прожитый под знаком предстоящего отъезда и с мыслями о встрече с мужем. «Я <…> закаменела, состояние ангела и памятника, очень издалека. Единственное мое живое (болевое) место — это Сережа (Аля — тот же Сережа). Для других (а все другие!) делаю, что могу, но безучастно. Люблю только 1911 года — и сейчас, 1921 года (тоску по Сереже — весть — всю эпопею!). Этих 10-ти лет как не было, ни одной привязанности», — писала она Волошину. А в предыдущем письме: «О Сереже думаю всечасно, любила многих, никого не любила».
…И все-таки привязанность была. Сохраненная на всю жизнь. К князю Сергею Михайловичу Волконскому. Внук декабриста, он никогда не забывал о дворянской чести, о данном слове (однажды пришел к Цветаевой в гости в страшный ливень, без всякой особой нужды, просто потому, что обещал). Не позволял себе опуститься даже в страшных условиях Москвы 1920 года, большевиков презирал не за то, что у него отняли имение, а за бездуховность. Словом, он принадлежал к тем, о ком Цветаева впоследствии скажет «уходящая раса», к тем представителям старого мира, за который бились Сергей Эфрон и Белая гвардия. Всем в нем очаровывает Цветаеву: «Стальная выправка хребта / И вороненой стали волос», а главное «скольженье вдоль / Ввысь…», дух,
«всегда отсутствующий здесь, /Чтоб там присутствовать бессменно».
Никакой эротики в отношениях Цветаевой и Волконского не было и быть не могло — Волконский не интересовался женщинами. Но ведь Цветаева любила души, только уступая полу. И Волконский в ее жизни занял место, которого почти никогда не удостаивались те, кому приходилось уступать. Она совершает колоссальную работу — переписывает крупным разборчивым почерком его мемуары (Волконский был театральный деятель), отнимая тем самым время у собственных стихов.
Но стихи все-таки пишутся. И до, и после отъезда Волконского (он эмигрировал осенью 1921 г.). И, конечно, многие их них посвящаются Сергею Эфрону.
Как по тем донским боям, —
В серединку самую,
По заморским городам
Все с тобой мечта моя.
Пусть весь свет идет к концу —
Достою у всенощной!
Чем с другим каким к венцу —
Так с тобою к стеночке.
— Ну-кось, до меня охоч!
Не зевай, брательники!
Так вдвоем и канем в ночь:
Одноколыбельники.
Цветаева — любительница создавать легенды — всегда говорила, что они с Сережей родились в один день. Справляли день рождения они всегда одновременно. Отсюда — «одноколыбельники». Хотя на самом деле Марина Ивановна родилась 26 сентября, а Сергей Яковлевич — 29-го.
Через 20 лет эти стихи обернутся страшным пророчеством — они «канут в ночь» в один год. И оба неестественной смертью. «С тобою к стеночке» тоже — метафорически — сбудется. Гибель Марины Цветаевой будет связана с судьбой ее мужа. Но об этом — в конце книги.
Цветаева и рвется к мужу, и боится этой встречи — ведь за эти четыре года разлуки много воды утекло. Она уже не та розовощекая и веселая молодая женщина, какой помнит ее муж («Не похорошела за годы разлуки! / Не будешь сердиться за грубые руки…»). Но она уверена, что сможет поддержать в муже веру в то, что все его страдания были не напрасны. Об этом два стихотворения под одним названием «Новогодняя», написанные в январе 1922 года и как бы продолжающие уже законченный к тому времени «Лебединый стан».
Часть III
«МНЕ СОВЕРШЕННО ВСЕ РАВНО, ГДЕ…»
ГЛАВА 1
Берлин
Геликон
Встреча с мужем
Письмо от Бориса Пастернака
15 мая 1922 года Цветаева с Алей сошли на вокзале в Берлине. Тут же была отправлена телеграмма Сергею Яковлевичу. Он в это время жил в Праге. Чехословацкое правительство по инициативе президента Т. Масарика приняло решение о расселении, обеспечении работой и пособиями русских беженцев. В Карлов университет в Праге было зачислено на полное иждивение около полутора тысяч русских студентов. В их числе и Сергей Эфрон. На философский факультет.
Он приехал в Берлин только через три недели. Очевидно, задержали какие-то неотложные дела, а скорее всего, отсутствие денег. Стипендия давала возможность худо-бедно сводить концы с концами, но не разъезжать по Европе.
А пока… Цветаевой в Берлине хорошо. Берлин 1922 года не зря называли «русским Берлином». Там чуть ли не весь цвет русской культуры: Андрей Белый, Эренбург, Алексей Толстой, Ремизов, Шестов…. На литературных вечерах выступали приехавшие из России и иных стран Пильняк, Есенин, Северянин Сашa Черный, Ходасевич и др. к берлинской газете «Накануне» выходит литературное приложение.