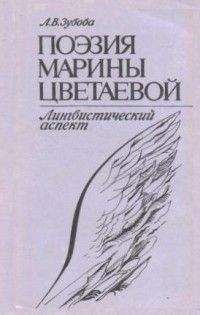Людмила Поликовская - Тайна гибели Марины Цветаевой
К сожалению, мы не знаем ответных писем Бахраха. Но мог ли двадцатилетний юноша, получая такие послания, не увериться, что он любим всерьез и надолго?
Последнее, полное нежности письмо Цветаева отправила Бахраху 10 сентября 1923 года. А 20 сентября Бахрах уже читал: «Мой дорогой друг, соберите все свое мужество в две руки и выслушайте меня: что-то кончено<…> Я люблю другого».
В жизнь Цветаевой вошел Константин Родзевич.
Кто он был? Друг Сергея Эфрона еще со времен Константинополя. Но если Сергей Эфрон ушел в Белую армию сознательно, то Константин Родзевич оказался там случайно: воевал у красных и попал в плен к белым. Только счастливая случайность — генерал Слащов знал его отца, военного врача царской армии — спасла его от расстрела. К моменту знакомства с Цветаевой он также учился в Карловом университете, только на юридическом факультете. Так же, как Эфрон, занимался общественной работой — был старостой факультета. 22 ноября 1924 года был избран председателем на общем собрании Союза русских студентов.
Родзевич, как и Марина Ивановна (и в отличие от Эфрона), — прекрасный ходок и любит дальние прогулки. Он часто сопровождает Цветаеву (обычно вместе с Алей) по чешским холмам, лесам, долинам. «Мой спутник — молоденький мальчик [22], простой, тихий<…> Называет мне все деревья в лесу и всех птиц. Выслеживаем с ним звериные тропы<…> Он сам, как дикий зверек, всех сторонится. Но ко мне у него доверие. Стихов не любит и не читает», — так описывает Цветаева Родзевича в письме к Бахраху в середине августа 1923 года.
Цветаевой вовсе не было свойственно рассматривать каждого приятного ей мужчину, даже уделяющего ей внимание, как потенциального любовника. Она любила дружбу и умела дружить. Сергей Яковлевич знал это ее качество и не ревновал жену к ее спутнику. Но постепенно — вехи тут не расставишь — дружба переходила в некое иное чувство, если пока еще не в любовь, то в ее преддверие.
Первое известное нам письмо Цветаевой к Родзевичу написано 27 августа 1923 года (судя по содержанию, оно и было первым):
«Мой родной Радзевич (Цветаева почему-то писала его фамилию через «а». — Л.П.): Вчера на большой дороге, под луной, расставаясь с Вами и держа Вашу холодную (NB! от голода!) руку в своей, мне безумно хотелось поцеловать Вас, и если я этого не сделала, то только потому, что луна была слишком большая! Мой дорогой друг, друг нежданный, нежеланный и негаданный, милый, чужой человек, ставший мне навеки родным, вчера под луной, идя домой я думала — «Слава Богу, слава мудрым богам, что я этого прелестного, опасного, чужого мальчика — не люблю!
Если бы я его любила, я бы от него не оторвалась, я не игрок, ставка моя — моя душа! [23] — и я сразу бы потеряла ставку. Пусть он любит других — все — и пусть я — других — тьмы тем! — так он, в лучшие часы души своей — навсегда мой». Пока еще Цветаева в своем репертуаре: хочет сохранить чувство отсутствием близости.
И далее: «Теперь, Радзевич, просьба: в самый трудный, в самый безысходный час свой души — идите ко мне. Пусть это не оскорбит Вашей мужской гордости, я знаю, что Вы сильны и КАК Вы сильны! — но на всякую силу — свой час. И вот в этот час, которого я, любя Вас, — Вам все-таки желаю, и который — желаю я или нет — все-таки придет — в этот час, будь Вы где угодно и что бы ни происходило в моей жизни — окликните: отзовусь».
И опять-таки нет в этом призыве ничего, не свойственного Цветаевой раньше: она всегда хотела давать, а не брать. («Любовь — это протянутые руки», — писала она Бахраху.)
28 августа Цветаева, Родзевич и Аля прошли около 30 км. Об этой прогулке она напишет Бахраху: «Вернулась, голодная, просквоженная ветром насквозь — уходила свою тоску». Отчего же тоска? Сказать однозначно: от сердечной смуты и каких-то, еще неясных, предчувствий, связанных с Родзевичем, — было бы неправильно. Цветаева — слишком сложная натура. Может быть, просто от того, что она вообще часто впадала в тоску. Может быть, потому, что в это время уже мечтала о большой поэтической форме, а пока в основном писала стихи. Может быть, от предстоящей разлуки с дочерью.
Первый год в Чехии Аля не училась. Марина Ивановна занималась с ней французским, Сергей Яковлевич — математикой. Но это, конечно, не могло заменить систематического образования. Русская гимназия находилась в Моравской Тшебове, а Цветаева не хотела разлучаться с дочерью. Можно, конечно, упрекнуть ее в эгоизме — Аля много помогала ей с домашними делами. Но, несомненно, имело место и другое: Цветаева не могла забыть, чем кончилась разлука с дочерьми в 1919 году И хотя на этот раз ситуация совершенно иная: директор гимназии — добрый знакомый Сергея Яковлевича, — а все-таки… Кроме того, сама Цветаева ведь гимназии не окончила и никогда об этом не жалела, она предпочитала самообразование.
Но Сергей Яковлевич проявил не свойственную ему твердость и настоял на отъезде дочери. Он вообще был лучшим отцом, чем Марина Ивановна матерью, — в Берлине пришел в ужас, увидев, как девятилетняя девочка пьет пиво наравне с Эренбур-гом, и тут же прекратил это безобразие. (Увлеченная разговором Марина Ивановна могла просто не заметить: пиво или лимонад в стакане у Али, а и заметив, махнуть рукой.)
Аля должна была уехать 3 сентября. До этого супруги Эфрон хотели перебраться в Прагу — жить в деревне одной Цветаевой было бы уж совсем невыносимо. С переездом помогает друг семьи — Константин Родзевич.
Сергей Эфрон уезжает вместе с дочерью. Марина Ивановна задерживается на несколько дней в Праге. Очевидно, в эти дни и происходит сближение с Родзевичем. Об этом, во всяком случае, говорят стихи и письма, написанные в Моравской Тшебове и отправленные Родзевичу.
Это пока еще не всезахватывающая страсть («Пока прислушиваюсь»). Но Цветаева уже чувствует, что грядет что-то абсолютно непохожее на то, что было в ее жизни раньше. (А было, как мы уже видели, всякое.) «Писать я сейчас не могу, это со мной так редко, полная перевернутость — конец или канун<…> Боюсь, что то новое, что растет, уже не подлежит стихам, стихии в себе боюсь, минующей — а быть может: разрывающей! — стихи<…> я<…> с каждым днем все больше и больше отрывалась, все легче ступала по земле<…> Поворот от смерти к жизни может быть смертелен, это не поворот, а падение, а дойдя до дна, удар страшен. Боюсь, что или не научусь жить, или слишком научусь, так, что потом захочется, вернее останется хотеть — только смерти».
Небожительница Цветаева поворачивается к земле. Родзевич сделал то, что не удавалось никому другому. А она — провидчески — боится этого (желанного для всякой другой женщины) поворота, но, словно потеряв волю, не сопротивляется. И в стихах, обращенных к Родзевичу, восхваляет то, что ее всегда отпугивало, — земную суть ее нового возлюбленного, его не-стремление понять ее душу. И даже его пустоту.
Никогда не узнаешь, что жгу, что трачу
(Сердец перебой)
На груди твоей нежной, пустой, горячей,
Гордец дорогой.
Никогда не узнаешь, каких не-наших
Бурь — следы сцеловал!
И совсем уж немыслимое в устах Цветаевой: «Прав, что слепо берешь». Стихотворение заканчивается риторическим вопросом: «Что победа твоя — пораженье сонмов, / Знаешь, юный Давид?» Уподобление
Родзевича Давиду очень точно, ибо он победил поистине Голиафа — Цветаеву. Сумел — конечно, на время — отогнать от нее сонмы.
Правда, Цветаева — пока еще — надеется, что эти стихи помогут возлюбленному понять ее «живую душу». Как же иначе?
Но все это — присказка пока что, сказка будет впереди. После возвращения Цветаевой из Моравской Тшебовы. Поскольку Сергей Яковлевич задерживается там, Цветаеву на вокзале встречает Родзевич.
И сказка начинается. В интимнейшем письме к Константину Болеславовичу (мы никогда бы не решились его напечатать, если бы оно уже не было напечатано), написанном сразу после возвращения — и при ежедневных свиданиях с возлюбленным! — она говорит о чуде, которое совершил Родзевич: он сумел преодолеть ее биологическую природу, «…и музыку слушая (а здесь — огромные соответствия!) ждешь конца (разрешения) и не получая его — томишься<…> Не могла я<…> не томиться и здесь по разрешению. Но почему никогда не: «Подожди». О, никогда, почти на краю, за миллиметр секунду до, — никогда! ни разу! Это было нелегко<…> но сказать мне — чужому, попросить<…> Недоверие? Гордость? Стыд? Все вместе<…> Это самая смутная во мне область, загадка, перед которой я стою, и если я никогда не считала это страданием, то только потому, что вообще считала любовь — болезнью, в которой страданий не считают. Но тоска была, жажда была — и не эта ли тоска, жажда, надежда толкнула меня тогда к Вам на станции? Тоска по до-воплощению<..> Ваше дело сделать меня женщиной и человеком, довоплотить меня. Сейчас или никогда. Моя ставка очень велика».