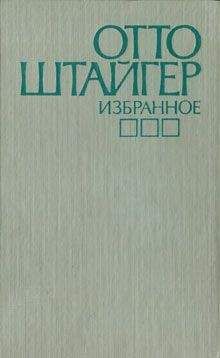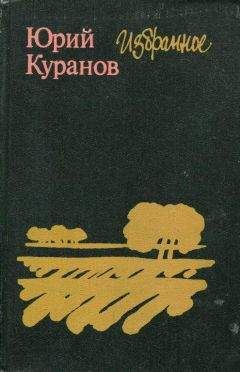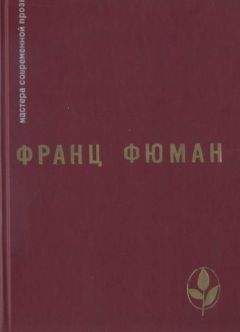Юрий Скоп - Избранное
— Еще…
И снова проиграл.
— Слушай, коробейник, у тебя совесть есть? — спросил у торговца с обидой.
Тот очаровательно улыбнулся и, подмигнув Кряквину, поманил его пальцем к себе:
— Есть, гражданин. Но сегодня я ею не торгую. Заходите завтра…
Кряквин улыбнулся:
— Тогда еще!
— Прекрасно! — воскликнул торговец, вытирая платком взмокший лоб. — Не везет нам в смерти, повезет в любви…
Развернул… Пусто!
— Все, — сказал Кряквин. — Играем до победы!
— Правильно, гражданин, — поддержал его торговец. — Масть по солнышку идет. Достоевскому-то, Федору Михалычу, тоже не везло… Но мы его чтим не за это.
— А-а… — обрадовался Кряквин. — Есть!
Пацаны захлопали.
— Поздравляю! — торжественным голосом объявил торговец и протянул Алексею Егоровичу полосатую пухлую брошюру. — Беседы об экономической реформе! Издание пятое, чем-то дополненное! Читайте, уважаемый, и пусть ваше сердце проникнется любовью к экономике! Рекомендую читать вместе с супругой, ибо жены наши — самые великие экономисты!
Кряквин искренне расхохотался.
Потом он слегка подкрепился, стоя в каком-то душном кафе возле Белорусского вокзала. Взял себе несколько горячих сосисок с горошком и бутылку теплого, невкусного пива. Соседкой по мраморному столику оказалась молоденькая цыганка…
Кряквин жевал сосиски, не обращая внимания на нее и на цыганских детишек, что возились под столом.
— А тебе еще нет пятьдесят… Но скоро будет… — вдруг заколдовала вкрадчивым, с хрипинкой голосом цыганка. — Волос твой побелеет совсем, а душа запоет… Ты будешь любим и богат. Тебя любят блондинки, а одна умирает от любви к тебе. Но ты очень горяч, и подводит тебя твоя горячность. Остудить тебя может… А не скажу, что остудит тебя… А позолоти ручку, не пожалеешь… Скажу всю правду тебе. — В ушах у цыганочки покачнулись огромные желтые серьги.
Кряквин допил стакан, поглядывая на нее одним глазом. Ему сделалось вдруг весело, и он, поставив стакан, в тон цыганке заговорил:
— А тебе двадцать шесть лет… А тебя звать… Катюша. У тебя трое детей и два мужа. Но любит тебя… совершенно лысый. Ой, как он любит тебя!.. Но подводит тебя твоя горячность. Мойся, Катюша, по утрам холодной водой, и она остудит тебя. Позолоти ручку?..
Цыганка недоверчиво дослушала и улыбнулась, показывая золотой зубик:
— Хорошо говорил, драгоценный… Ничего от тебя не возьму. Но скажу тебе слово. Ты послушай меня… Не ходи очень прямо, сердце будет болеть…
— А как же тогда? — серьезно спросил Кряквин.
Цыганка внимательно и цепко глянула ему в глаза. Покачала головой.
— У тебя есть один друг. У него об этом спроси…
Потом Кряквин стоял в тамбуре электрички, дымя папиросой в пустое, без стекла, окно. Электричка, покрикивая гудком, летела по зеленому Подмосковью.
Михеев дремал на веранде. Кряквин осторожно, на цыпочках, подошел и сел рядом на предательски вскрипнувший шезлонг. Иван Андреевич открыл глаза, наморщил лоб и вытер согнутым пальцем губы:
— Вот это да-а… Не ожидал. С приездом, Алексей Егорович.
— Спасибо. Спите, как Ермак… Без часовых, — Он отер потное лицо. — Жарко… Дождик, наверное, будет. А вообще… я скажу… хорошо здесь у вас! Как в раю. Аж завидки берут… Водички попить не найдется?
— В этом раю все найдется… — Михеев сходил и принес из холодильника бутылку минеральной. — Виски не предлагаю…
— Да ну его к черту! — Кряквин с жадностью накинулся на воду. Выпил подряд два стакана. — Жабры прямо так и слиплись, покуда дошел.
Михеев с теплотой смотрел на него; он обрадовался появлению Алексея Егоровича.
— Вы снимайте с себя все лишнее… Кстати, свежую рубашку?
— Да нет… А вот клифт свой парадный я скину… Задушил… — Кряквин сбросил пиджак и устроил его на спинку шезлонга. Солнечный прутик осветил орден Ленина. — Благодать, кто понимает… Курить, конечно, нельзя?..
— Вам можно, — улыбнулся Михеев. — Здесь веранда… Плюс вентилятор, на худой конец.
— Тогда полный порядок. Живу! Вы, кстати, смотритесь нормально. Это я вам не комплимент, а точно…
— Приятно слышать, — сказал сдержанно Михеев. — Я действительно чувствую себя хорошо. Рассказывайте, как, что?
— Да вот… — закурил Кряквин. — Прилетел. Первым рейсом. Сходил в Госплан…
— А в министерстве были?
— Нет пока… Но с Сорогиным по телефону пообщался.
— И как?
— Худо… Горим с квартальным. По сто пятьдесят вагонов дают. Хоть плачь!.. Еще декада, и придется останавливать рудники. А планчик, между прочим, нам хотят нарастить…
— Я в курсе, Алексей Егорович. Где остановились?
— В «Москве». Четвертый этаж. Нормально. Сорогин-то еще и успокаивает… Держись, мол… До ноября, мол, держись. А за что только держаться?.. За какое такое место?! У нас же все склады битком, почти полтора миллиона тонн уложили. Больше некуда… Кстати, могу вас обрадовать… Нижнее бортовое содержание пятиокиси фосфора в руде в среднем подсело до десяти процентов… Вот так! Фабрики задыхаются… А они, понимаешь, планчик нам думают прибавлять… Злой как черт!
— Понимаю вас… И все равно, Алексей Егорович, со злостью надо поаккуратнее.
— Вы-то… сами… собираетесь на актив?
— Вероятней всего, что нет. Вдруг да… — Михеев виновато показал на сердце. — А вы… волнуетесь?
— Да вроде не очень. Мне ведь, сами понимаете, от актива не любви хочется… Я не красная девушка. Иду на актив не челом бить…
— Одну минуту, Алексей Егорович. — Михеев встал и ушел в дом. Довольно быстро вернулся. — Я знаю, что вы не очень-то уж большой любитель принимать чужие советы, но тут я… — Он протянул Кряквину рукопись, сколотую крупными скрепками. — Прочитайте, пожалуйста. Десять страниц. Строго на двадцать пять минут неспешного выступления. Я это давно сочинил. Еще к тому совещанию… Но не выступал. А сейчас подкорректировал, вполне своевременно может прозвучать. Пробегите глазами.
Кряквин невнятно гмыкнул, устроился поудобней в шезлонге и стал читать. Михеев, чтобы не следить за выражением его лица, спустился с веранды в сад. Начал, заложив руки за спину, прохаживаться по хрустящей дорожке. Остановился возле клумбы, сорвал какой-то цветок и понюхал его. Зудко гудели пчелы. Листья деревьев недвижно томились в безветрии. Над садом, высоко-высоко, сшивая ниткой инверсионного следа пушистые облака, искрилась крохотная иголка реактивного самолета. Михеев смотрел ему вслед и вдруг отчетливо и резко представил себя в кабине истребителя… Закашиваясь по кругу, рванулась навстречу пока еще далекая земля… Рука послушно выбрала сектор газа… Истребитель, прокалывая легкую облачную вату, штопором вывинчивался из высоты… Стрелка прибора валилась и валилась влево, и совсем уже близко ударил по глазам отразившийся от реки, что плавно обогнула аэродром, солнечный всплеск…
— Иван Андреевич! — услышал Михеев голос Кряквина. — Идите, я прочитал!
— Иду… — отозвался Михеев и с какой-то щемящей тоской посмотрел еще раз в небо. Белый след в нем теперь стал пошире и походил уже на чей-то диковинно распушившийся хвост.
— Прочитал я… — повторил Кряквин, когда Михеев, включив по пути вентилятор, сел напротив него в заскрипевший шезлонг.
— И что?
— Честно?
— Да уж хотелось бы, чтобы честно… — не мигая, ответил Михеев.
— Удивили вы меня, Иван Андреевич.
— Чем же?
— Одинаковостью.
— То есть?
— Вы написали здесь почти слово в слово то, о чем я собираюсь говорить на активе.
— Ну… в этом как раз и нет ничего удивительного…
— Не понял…
— Я сделал это на основании тех ваших расчетов, из-за которых мы тогда с вами неделю не разговаривали…
— Вы не разговаривали со мной, а не я с вами, — уточнил Кряквин.
— Да, да… — сказал Михеев.
— Вот так! — Кряквин поднялся, заскрипев шезлонгом, и прошелся по веранде. — Почему же тогда… ты все-таки не выступил, Иван? — Он с прищуром уставился на Михеева.
Возникла короткая пауза.
— Вот об этом, Алексей Егорович, мы сейчас и поговорим.
— Давно бы пора.
— Только давайте договоримся сразу… Без нервов.
— Попытаюсь, — вздохнул носом Кряквин. — Не обращайте на мои эмоции внимания.
— Попытаюсь… — одной щекой улыбнулся Михеев. — Я выступил тогда, Алексей… Выступил. Только не там, не на том совещании…
— А где же?
— Это не важно сейчас… — Михеев на мгновение прикрыл ладонью глаза, вспомнив ту ночь на квартире у Веры Владимировны. — И хорошо наказал себя за свою слабость…
— Ты струсил, Иван… Вот что!
— Вряд ли…
— Обезопасил себя, да?
— В какой-то мере… А ты можешь сформулировать, что такое мужество?
— Я? — переспросил Кряквин. — А зачем его формулировать?.. Если оно есть, так оно есть.