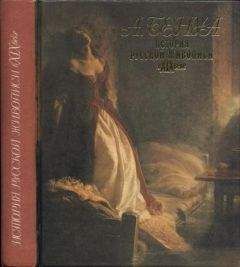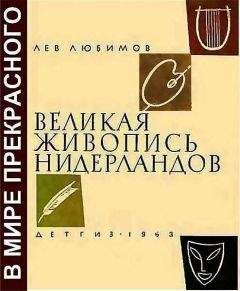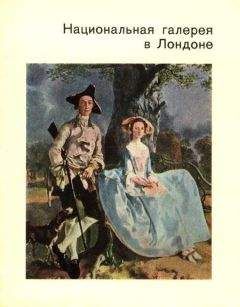Александр Бенуа - История живописи
Творение Учелло дает большое количество примеров пейзажных мотивов, и если бы возможно было доказать, что поразительная картина охоты в Taylorian Museum в Оксфорде действительно принадлежит ему, то это подтвердило бы за ним и значение родоначальника пейзажной живописи в настоящем смысле слова. Совершенство, с каким нарисованы здесь в разнообразных поворотах лошади, напоминает совершенство писанного "бронзового коня" под Гоквудом, и то же совершенное знание "одушевленной природы" сказывается в походке, беге и в прыжках прекрасных, тонконогих борзых собак, сопутствующих компании жестикулирующих и кричащих охотников. Однако самое замечательное в этой длинной фризообразной картине - это лес, черно-зеленая масса листвы, поддерживаемая теряющейся в глубине колоннадой стройных стволов, из-за которых справа виден просвет на реку. Почва усеяна довольно схематическим узором травы и цветов, контрастирующим с совершенным реализмом остального.
Паоло Учелло. Памятник Джону Гоквуду в флорентийском Дуомо. Фреска.
Требуется доказать принадлежность Паоло Учелло и небольшого "тондо" "Поклонение волхвов" в Берлине, приписывавшегося прежде Пизано. Если бы эта картина осталась за флорентийским мастером, то мы могли бы считать ее одним из ранних связующих звеньев между "германизированной" живописью северной Италии и чисто "латинской", ее тосканской "версией". Щегольская роскошь костюмов, богатство пейзажного мотива с рекой, горами, высокой сосной, овцами, лошадьми и павлинами были бы северными чертами; монументальный стиль выстроившихся барельефом фигур - достоянием Флоренции. Но, к сожалению, обе эти картины, как и "Святой Георгий" (борющийся среди романтических скал с драконом) в собрании графа Ланскоронского в Вене, остаются загадками. Что они относятся ко времени Учелло и что в них есть черты именно его понимания вещей, - в этом нельзя сомневаться. Но откуда здесь эти северные, "романтические" мотивы? Или это просто сказывается общий "авантюрный" характер всей эпохи, в достаточной степени выразившийся, например, в литературе? Или еще это следы пребывания Учелло в Венеции[254], где уже красовались тогда (сгоревшие впоследствии) фрески Джентиле, которые должны были служить школой и откровением для целого ряда поколений?
За Паоло Учелло остаются, во всяком случае, кроме Гоквуда, несколько батальных картин 1430-х годов (иллюстрирующих разные эпизоды одной битвы и находящихся ныне в Уффици, в Лувре и в Лондонской национальной галерее) и фрески в "Зеленом дворике" монастыря при церкви Санта Мария Новелла. Во всех этих картинах мы, правда, уже не встречаем того прелестного пейзажиста, с которым мы только что познакомились, особенно по оксфордской картине, но для истории пейзажа и они представляют важный материал. Картины эти отличаются какой-то грузностью, в них опять пластический элемент играет преимущественную роль. Однако все же в "Баталиях" позади сражающихся развертываются по холмам пашни и поля, и лишь традиционное темное (пострадавшее от времени?) небо мешает иллюзии пейзажной стороны. Кроме того, Учелло здесь старается передать глубину посредством довольно наивных приемов: всевозможного оружия, "разложенного" по земле (имеющей вид совершенно гладкой плоскости), а также в ракурсных поворотах убитых.
Поражает еще в "Баталиях" отсутствие определенного освещения - черта, вызванная, быть может, желанием придать картинам характер барельефов. "Неосвещенность" этих картин тем более странна, что задачи освещения как раз в эти же 1430-е годы выступили на очередь, и ими занимались Липпо Липпи, Доменико Венецеано, фра Беато и, наконец, сам Учелло. Однако в странных, но и поразительно сильных фресках "Киостро Верде" Учелло взялся за такую задачу, которой не преодолеть было живописи и сто лет спустя. Он пожелал изобразить эффект сверкнувшей среди ужаса всемирного потопа молнии.
Несмотря на принятую более ранними художниками систему росписи этих стен дворика - в монохромной гамме, основанной на серо-зеленом тоне (отсюда и прозвище), - систему, которой в общих чертах подчинился и Учелло, мастер здесь не мог утерпеть, чтобы не ввести и другие краски в палитру. Сам луч молнии окрашен в розовый тон (уже одно это указывает, насколько внимательно Учелло наблюдал явления природы), толпящиеся громады туч - в синий, ковчег слева - в коричнево-желтый с бурыми тенями. Посреди тесного пролива между двумя изображениями ковчега (эта несообразность явилась следствием стремления поместить два эпизода истории Ноя в одно отделение, под один свод) мы видим почти затопленный розоватый островок, на котором растет одинокое дерево. Ствол его опален молнией, листву рвет бешеный вихрь и пучки ее летят к первому плану. На выступ ковчега стараются взобраться последние обитатели земли, и каждая фигура бросает резко очерченную тень на стену этого бесконечно уходящего в глубину "сарая".
VII - Липпи
Липпи
Фра Филиппо Липпи. Рождество Христово. Фреска. Дуомо. Сполето.
В 1430-х годах появляются и первые работы кармелита Липпи, любимца Козимо Медичи, знаменитого своими похождениями, окончившимися браком с монахиней, которую художник-монах похитил из монастыря. Липпи до известной степени и в жизни, и в живописи представляет контраст истинно святому Беато Анджелико. Все его искусство пропитано чувственностью; но, разумеется, в первой половине XV века чувственность могла выразиться лишь в мистической нежности и в восхитительной, хотя и робкой "светскости". И естественно, что у "чувственника" сценарий должен был играть более значительную роль, нежели у более отвлеченных художников. Липпи считается даже родоначальником "лесного пейзажа". Последнее неверно, ибо леса изображались еще в XIV веке (на фресках Спинелло и Аньоло, а также в целом ряде миниатюр). Мало того, Липпи трактует свои пейзажи несколько более архаическим образом, чем другие его сверстники. Он снова "громоздит" скалы, придает фону своих композиций характер террас и амфитеатров. Но в чем Липпи все же выказывает себя особенным и передовым мастером, так это в том, что пейзаж у него оживает, одушевляется, принимает непосредственное участие в создании требуемого настроения.
Липпи придал пейзажу характер какой-то "идиллической молитвы", чего-то уютно-замкнутого. На картинах фра Беато об уюте не думаешь. Это потому, что он не чувственник. У Анджелико была кристальной чистоты душа, и такой же кристальной чистоты его картины. Все искусство фра Беато как бы вознесено в небо, в дивный свет и холодную атмосферу горных вершин. У него - любовь, спасение, подвиг, гимны, восхищение, но ничего суетного, ничего "домашнего". Идиллические ноты в его творении редки, и в них он, быть может, каялся, как в чем-то недостойном своей задачи. Это действительно искусство ангела, бесполого существа, которое вечно созерцает Бога.
В искусстве Липпи также заключена чарующая молитвенность, однако черта эта присуща всей тогдашней культуре, всему юному гуманизму, еще не отказавшемуся от мистики христианства, которая всего два века назад была обновлена "новым Христом" - Франциском и "новым Павлом" - Св. Домиником. Во всяком случае, искусство Липпи отнюдь не ангельское, а насквозь человеческое, и вот именно уютность и делает его человеческим, близким и теплым.
Уютность Липпи обнаруживается во всем, но одним из средств для передачи основного настроения художника являются его "декорации". К ранним его произведениям принадлежит "Поклонение Младенцу" в Флорентийской академии и два варианта того же сюжета - один в той же галерее, другой в Берлинской[255]. Это именно те лесные пейзажи, которых мы только что коснулись. Особенно прекрасен берлинский вариант. Горизонт скрыт скалистыми террасами, по которым растут тонкие сосны. Темно в этом сказочном бору и жестко ходить по его ступеням, но зато чувствуется, что здесь полное уединение. Молчание и мир. Лишь однообразно между каменными берегами журчит пробирающийся из тьмы поток. На первом плане небольшая, дивно разукрашенная цветами лужайка. На ее душистый свежий ковер положила Дева Мария Священное Дитя - здорового, светлого ребенка - и теперь молится Ему, молится за Него, хрупкая и милая, обреченная на вечные страдания. В этом Божьем лесу, под благословляющими дланями доброго Бога-Отца, спускающегося в звездном окружении над самым тельцем Своего Сына, не страшно. Сюда пришел помолиться и почтенный старичок-отшельник, здесь же стоит будущий товарищ по играм Иисуса, Иоанн Предтеча.
В других двух вариантах пейзажные задачи менее ясны; картины эти слишком испещрены подробностями, менее сосредоточены в эффекте, но в "варианте со св. Иеронимом" интересно проследить, откуда появилась у Липпи самая идея такой лесной декорации. На первом плане мы здесь видим, кроме Мадонны и Младенца, отдыхающего и задумавшегося Иосифа. Поодаль, из-за двух скалистых кулис, виднеются коровы и осел; справа резким перспективным сокращением уходит в глубину стена руины, за которой, в пару молящемуся св. Иерониму, Липпи поставил фигуру молящейся Магдалины. Еще дальше, за руиной, мы видим среди леса пастухов и стадо овец. Таким образом, на этот раз мы имеем перед собой не "отвлеченное" поклонение Иисусу, а украшенное всевозможными деталями изображение "Рождества", так называемое "Presepe"; на это указывает присутствие Иосифа, двух животных, руины и пастухов.