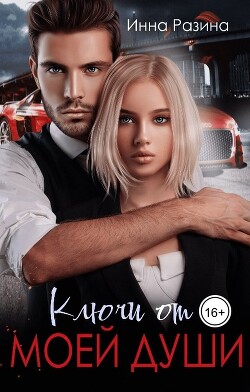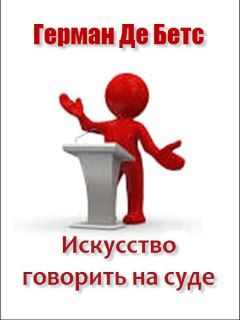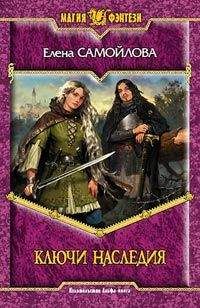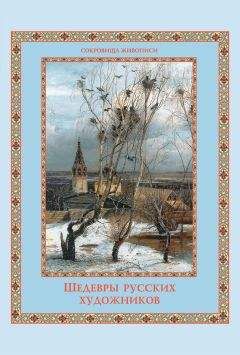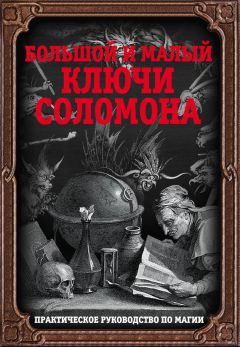Вековые тайны живописи. Ключи к великим шедеврам - Легран Елена
Созидательный подъем в таком контексте практически неизбежен.
И он наступил.
XIX век стал временем небывалого развития искусства, взявшего на себя не только роль смыслового и эстетического наполнения человеческого существования через искусство, но и роль наставника, проводника, создателя новой идеологии и новой системы ценностей.
Я посвятила большую часть вступления именно французским событиям, руководствуясь тем соображением, что Франция в XIX столетии стала поистине «законодателем мод» в политической и культурной жизни Европы. Именно оттуда веяло тем «ветром перемен», под легким бризом или штормовым порывом которого менялся облик целого континента, названного в то время Старым Светом.
Это, разумеется, не исключало самобытного и значимого развития искусства и в других странах Европы. Помимо французской живописи, в этой главе мы коснемся живописи немецкой, испанской и английской. Что же до русской живописи, которая в XIX столетии выступила настолько ярко и громко, что не будет преувеличением говорить о феномене русского искусства этого времени, то она заслуживает отдельной книги.
Так что впереди у нас разнообразное и захватывающее путешествие по великой эпохе перемен, породившей живописные сокровища, которые мог подарить человечеству только этот героический и революционный век.
Революционная икона у Давида
Революция, подобно религии, не только создает свое учение, но и порождает святых. А значит, ей тоже нужны иконы. Перед нами – одна из революционных икон, на которой изображен мученик за веру. За революционную веру.

https://images.eksmo.ru/images/vekovye-tayny-zhivopisi/david.JPG
Жак-Луи Давид
Смерть Марата
1793, Королевские музеи изобразительных искусств Бельгии, Брюссель
Изображен ровно так, как и положено мученику: благостно-умиротворенным, воплощающим одновременно трогательную уязвимость и самоотверженную работу на благо человечества до последнего вздоха, сраженного ударом, нанесенным с подлой коварностью, воспользовавшейся добротой и милосердным сердцем святого.
Именно такое впечатление создается у зрителя при взгляде на картину кисти Жака-Луи Давида [163], вошедшую в историю как «Смерть Марата». Это описательное название закрепилось за ней позже. Сам же художник оставил нам в качестве названия лишь посвящение, лаконичное и прямое, в духе античности: «Марату – Давид».
Революционеры любили красивые жесты, совершали их сами и ценили их в других. Данное произведение живописи – образец такого жеста: Давид создал картину за три месяца и преподнес ее в дар Национальному конвенту [164]. Она заняла почетное место на стене главного законодательного органа революционной Франции (членом которого, к слову сказать, являлся и сам Давид) рядом с другой его картиной, на которой был изображен еще один мученик Революции – Лепелетье де Сен-Фаржо.
Жан-Поль Марат был одним из самых радикальных и, кстати, немолодых (к 1793 году ему исполнилось 50 лет) революционеров. Немытый, некрасивый, ворчливый, вечно хмурый и подчеркнуто бедный, он выделялся среди ухоженных и надушенных щеголей Робеспьера и Сен-Жюста, состоятельных гедонистов Дантона и Барера, сдержанных и задумчивых чиновников Вадье и Карно. Славу Марату принес его смелый и хлесткий листок «Друг народа» [165], от которого он и получил прозвище, закрепившееся за ним настолько прочно, что стало его вторым именем – Друг народа. Он требовал от революционного правительства решительности в борьбе с врагами Республики и доходил до того, что считал, что убийство 20 тысяч французов, сопротивляющихся революционным преобразованиям, может решить все проблемы, стоящие перед молодым государством.
Неудивительно, что именно Марат стал главной мишенью громкого политического убийства, совершенного молодой девушкой Шарлоттой Корде, экзальтированной и самоотверженной, ставшей игрушкой в руках ловких манипуляторов из оппозиционного лагеря жирондистов [166].
Шарлотта Корде приехала в Париж, купила нож в столичной лавке и пришла к Марату домой под видом просительницы. Он принял ее, сидя в ванной, где, мучимый экземой [167], часто получал облегчение, потому и оборудовал вокруг нее свое рабочее место. Шарлотта протянула ему свое прошение и, пока он читал, всадила нож в грудь Марата. Быстро, четко, хладнокровно, иными словами – так, как умеют только фанатики и профессиональные убийцы. Девушка не пыталась скрыться, со спокойной безучастностью сдалась властям, была осуждена на смерть и гильотинирована три дня спустя после своего преступления.
Тогда-то депутаты Национального конвента и поручили главному художнику Французской республики и своему коллеге Жаку-Луи Давиду создать картину, которая увековечила бы для истории мученичество одного из них.
Перед Давидом стояла непростая задача: противопоставить убитого Друга народа, немолодого, некрасивого и больного – прекрасной, юной, героической девушке, пожертвовавшей собой из желания избавить мир от «чудовища», каким представляли Марата роялисты. Образ Шарлотты Корде просто идеально подходил для возведения ее на пьедестал святости. Чем, разумеется, не преминули воспользоваться роялисты, превратив ее чуть ли не во вторую Жанну д’Арк.
Художник прекрасно осознавал всю ответственность в конструировании столь значимого для революционной идеологии образа, каким стал убитый Марат. Понимал он и то, что создает не просто картину: он строит философию, воздвигает монумент служению Революции, пишет манифест революционера. И уж коли полемика со сторонниками Шарлотты Корде (иными словами – с врагами Революции) перешла из политики в пространство религии, художник вошел в это пространство с дерзостной уверенностью, свойственной революционерам. Юной убийце, возведенной роялистами в ранг святой мученицы, он противопоставляет Марата-Христа, чем окончательно выигрывает битву идеологий, потому что крыть его оппонентам нечем.
Все на картине «Смерть Марата» созвучно традиционным изображениям святых, предназначенным для украшения церковных стен в назидание верующим.
Давид изображает чистый, лаконичный образ мученика Марата в изломанной позе Иисуса в сцене положения во гроб или снятия с креста. Однако если тело Христа поддерживается любящими и скорбящими о нем людьми (Девой Марией, Марией Магдалиной, Иоанном Богословом и Иосифом Аримафейским), то Марат абсолютно одинок и всеми покинут, что придает его образу и больше трагичности, и больше хрупкости. Художник словно ставит под сомнение необходимость той жертвы, что Друг народа принес на алтарь свободы, подобно Иисусу, пожертвовавшему собой ради человечества. Одиночество революционера – один из главных лейтмотивов многих речей французских политических деятелей того времени. И этот же образ одинокого и непонятого героя, оставшегося наедине с миром, перейдет в живопись и литературу романтизма.
Сходство с христианскими святыми придает картине и зеленый цвет сукна, символизирующий жизнь вечную и непременное воскрешение, которое Марат обретет – нет, не в лучшем из миров! – в сердцах людей.
Не меньшую значимость играет и фон, представляющий собой соединение траурного черного и божественного золотого. Такой черный мы видим в религиозно-медитативных натюрмортах Сурбарана [168], такой золотой – на картинах Джотто [169]. В «Смерти Марата» черный отступает перед врывающимся в пространство справа золотым сиянием, которое постепенно проникнет в каждый уголок полотна и зальет его ослепительным солнечным светом. Как должна была быть залита светом комната, в которой произошло страшное преступление, ведь Марат был убит летним днем. Или это все же божественный свет?