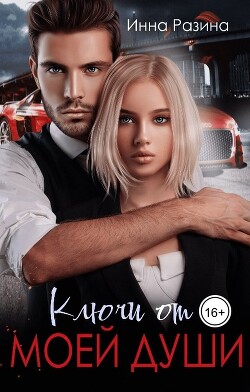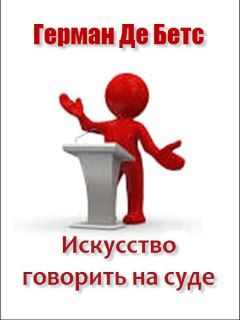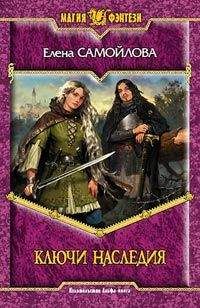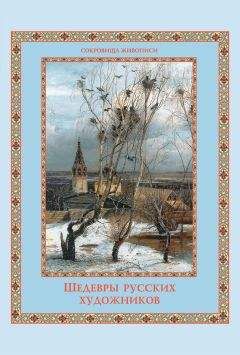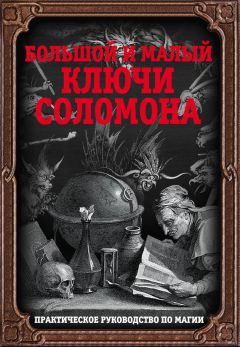Вековые тайны живописи. Ключи к великим шедеврам - Легран Елена
Забегая вперед, скажу, что усилия его не принесли дипломатических результатов, зато подарили миру несколько замечательных произведений искусства, в том числе картину, о которой идет речь. Это монументальное полотно [94] до сих пор находится в Англии и выставляется в Национальной галерее Лондона в одном зале с конным портретом короля Карла работы Антониса Ван Дейка [95], ученика Рубенса.
Перед нами аллегория, то есть самый запутанный и в то же время самый ясный из всех живописных жанров. Запутанный – потому что он весь, подобно ребусу, состоит из кодов и символов. Ясный – потому что эти коды и символы были вполне однозначны и понятны тем, с кем художник общался с помощью таких живописных аллегорических текстов. Ведь главная цель автора аллегории – быть понятым и как можно яснее донести свою мысль до зрителя. А зрителем Рубенса являлись не мы с вами (как бы печально это сейчас ни звучало!), а Карл I, король Англии, Шотландии и Ирландии. Ему аллегория Рубенса была понятна с первого взгляда. Как она станет понятна вам по окончании чтения этой главы.
Подобно всем работам флорентийского мастера, картина «Минерва защищает Мир от Марса» полна жизни и наполнена действием. Вокруг царящей в центре композиции аллегории Мира в виде прекрасной молодой женщины все бурлит, движется и клубится. Мир же пребывает в состоянии полнейшего покоя, занимаясь тем, ради чего и существует, – вскармливает своим молоком Плутоса, бога богатства, в греческой мифологии изображаемого в виде маленького мальчика.
Но покой этот возможен лишь потому, что на заднем плане, среди клубящихся облаков и подвижных драпировок, воительница Минерва, богиня мудрости и покровительница ремесел, ведет борьбу с богом войны Марсом. Богиня мести Фурия, спутница Марса, уже пустилась в бегство, но разъяренный бог еще не готов отступить: сжав в руках меч, он обернулся к группе из трех детей, словно именно их выбрал своей жертвой.
Две девочки и мальчик – единственные не аллегорические персонажи на картине. Они написаны Рубенсом с детей его друга Бальдазара Жербье, придворного художника Карла I, в доме которого Рубенс останавливался во время своих лондонских визитов. Но в данном случае это не дети Жербье, а просто дети, то самое юное поколение, которому и предстоит воспользоваться плодами мирной жизни.
Плоды на картине тоже представлены, и они вполне конкретны: Сатир протягивает детям рог изобилия, неизменный атрибут Плутоса, а маленький крылатый Амур, бог любви, передает фрукты старшей из девочек, которая уже приготовилась принять их в подол своего платья.
Амур тут не случаен: бог брака Гименей готовится возложить на девушку брачный венец. Так что присутствие Амура обещает нам, что ожидающий ее союз будет наполнен любовью.
Левая сторона картины бурлит радостью: менады, подруги Сатира и спутницы веселого бога виноделия Бахуса, пританцовывая, подносят Миру золотую посуду, еще один символ благополучия и достатка, наравне с рогом изобилия. Путто [96] с кадуцеем [97] в руке, символизирующий процветание торговли, коронует Мир оливковым венком, знаком умиротворения.
Если мысленно разделить картину по диагонали от левого верхнего угла к правому нижнему, то мы получим изображение двух противоположных миров, в одном из которых царит мир, в другом – бушует война.
Слева от диагонали процветает благоденствие. Каждый персонаж этой части картины представляет собой весомый аргумент в пользу мира. Любовь и брак, изобилие и богатство, торговля и празднества – вот, что такое мир, словно говорит Рубенс своей картиной. Вот, что защищает сверкающим щитом мудрая воительница Минерва, покровительница наук и ремесел, то есть созидательной деятельности человека. Вот, на что покушается яростная и грубая война, сопровождаемая местью и ненавистью.
Мир – кормилец богатства. Мир – защитник детей. Рубенс буквально иллюстрирует высказывания древнегреческого поэта Гесиода, которые знали все образованные люди XVII века. И которые, разумеется, были «прочитаны» английским королем на его картине.
Прочитаны – и оставлены без ответа.
Можно предположить, что «Минерва защищает Мир от Марса» стала для Рубенса последним аргументом, который он использовал в переговорах с Карлом I. Не найдя нужных слов, чтобы убедить короля начать мирные переговоры с Испанией, Рубенс-дипломат заговорил с ним тем единственным языком, который Рубенс-художник счел более красноречивым, чем самые возвышенные речи.
И даже если дипломатическая миссия была живописцем провалена, на свет родился один из величайших образцов человеческого гения, сотканный из простого и естественного желания принести Европе мир.
Нестрашная смерть у Пуссена
Смерть страшна. Смерть нежеланна. Смерть неотвратима. Смерть вездесуща. Есть она даже в идеальной стране под названием Аркадия, где царит мир, любовь и благолепие, которые кажутся абсолютными и вечными. Но этот абсолют и эта вечность – лишь видимость.

https://images.eksmo.ru/images/vekovye-tayny-zhivopisi/pussen.JPG
Никола Пуссен
Аркадские пастухи (Et in Arcadia ego)
1638–1639, Лувр, Париж
Таков посыл картины, которую без преувеличения можно назвать одним из самых совершенных произведений мировой живописи.
Совершенно ее композиционное построение: четыре персонажа вместе с кронами деревьев над ними образуют круг, центром которого являются руки, указывающие на надпись. Совершенна ее цветовая палитра: желтый, красный, синий, белый – все четыре основных цвета стиля классицизм присутствуют в одеждах ее героев. Совершенны и сами герои: мужчины мускулисты и мужественны, не будучи при этом лишены чувственной красоты, женщина величественна и прекрасна, а все вместе они словно срисованы с античных статуй – позы, жесты, наклон головы. Совершенна и живописная техника мастера.
В этом произведении нет ни одного изъяна или художественного промаха. Все на этом полотне дышит гармонией и покоем. Все – живое олицетворение достоинства и величия.
Но живое ли? Или мертвое?
В отличие от порывистого и страстного барокко, классицизм торжественно-статичен. Недаром персонажей классицизма сравнивают с раскрашенными статуями: именно ими вдохновлялись художники, с них списывали позы, жесты и даже мимику. Приглядитесь к полотнам французских классицистов XVII века или неоклассицистов XVIII века – и вы увидите на них преображенные в живописные фигуры статуи римских воинов и матрон и греческих богов и богинь.
В картине, которая сейчас открылась на ваших экранах, соединились холодная в своей уравновешенности красота и неумолимая в своей бесспорности философия. И эта философия гласит: смерть настигнет каждого, кем бы он ни был, где бы ни находился, какую бы жизнь ни вел.
Именно это открытие только что на наших глазах сделали герои картины Никола Пуссена [98] «Аркадские пастухи», иначе именуемой «Et in Arcadia ego [99]» (по надписи, над которой они склонились). Не будем забывать, что названия своим картинам художники XVII века не давали: они появлялись позже, когда полотна, попадая к коллекционерам, превращались еще и в строчку в реестре художественных «трофеев».
Прекрасное произведение, о котором мы ведем речь, стало вожделенной добычей короля Франции Людовика XIV, буквально бредившего им и приложившего к его приобретению немало финансовых и моральных усилий [100]. Сперва «Аркадские пастухи» украшали стены личных апартаментов Короля-Солнце, а столетие спустя перекочевали в Луврский музей, открывший свои двери в тот самый год, когда создавшая его Французская республика отрубила голову прапраправнуку Людовика XIV. Там-то, на стенах Лувра, картина и получила то двойное название, под которым вошла в историю мировой живописи.