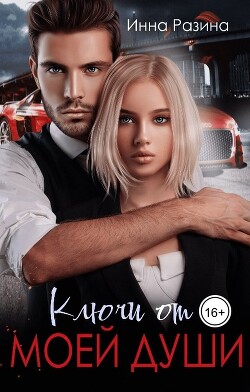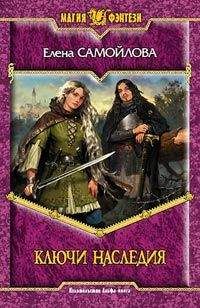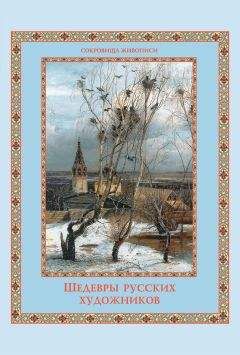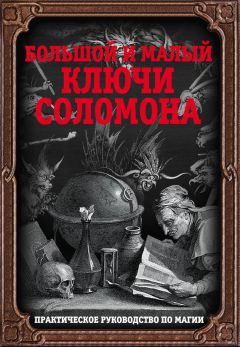Вековые тайны живописи. Ключи к великим шедеврам - Легран Елена
Картина эта, ставшая настоящей живописной иконой стиля классицизм, интересна нам не только своими художественными достоинствами, но и не до конца раскрытым смыслом, заложенным в нее. Если бы нам пришло в голову составлять список картин-загадок, то «Аркадские пастухи» заняли бы в нем далеко не последнее место. И надпись, которую пастухи обнаружили на кенотафе [101] и которая является альтернативным названием картины, не помогает нам в разгадке, а только все путает.
Попробуем разобраться во всем по порядку.
Что за мир показывает нам Пуссен? Кто эти люди и чем они занимаются?
Мы в Аркадии (об этом указывает надпись на кенотафе), идиллической стране пастухов, пастушек, нимф [102] и сатиров [103], которой правит бог природы и рогатого скота Пан. Это своего рода рай на земле, где все пребывают в любви и беззаботном состоянии, предаваясь невинным радостям и честному, но неутомительному труду [104].
Три пастуха – юноша, молодой человек и муж средних лет, – облаченные в некое подобие декоративных драпировок, остановились перед кенотафом (не гробницей!), на котором можно разглядеть надпись, гласящую: «Et in Arcadia ego». Казалось бы, четыре слова, ничего сложного! Но не тут-то было! Грамматически фраза звучит двусмысленно, и знатоки латыни разделились на два лагеря. Одни переводят ее так: «И я был в Аркадии». Другие настаивают на варианте: «И в Аркадии я есть».
Кто же этот загадочный «я»?
В первом варианте перевода речь идет, скорее всего, о человеке, в память о котором возведен кенотаф. То есть о смертном, бывшем когда-то жителем Аркадии и теперь предостерегающем прохожих, как бы говоря: «Я был одним из вас. И вот теперь меня тут нет. С вами случится то же самое».
Во втором варианте эпитафия звучит не от лица человека, а от лица самой Смерти (напишем ее с большой буквы, поскольку здесь она существо одушевленное, раз разговаривает с нами). Смерть, ухмыляясь, заявляет пастухам (а через них – и нам с вами): «Вы же не думали, что здесь, в благословенной Аркадии, избавились от меня? Вот она я! И однажды мы с вами встретимся».
Простая, на первый взгляд, надпись может быть прочитана двумя способами. Но сильно ли меняется от этого разночтения смысл написанного? Нисколько! В обоих случаях речь идет о вездесущности и неотвратимости смерти.
Картина Пуссена неподвижна и торжественна. Создается впечатление, что перед совершенным пастухами открытием замерло все: сама природа остановилась на мгновение, подчеркивая торжественность момента. Пастух слева погрузился в меланхоличное размышление. Тот, что опустился на колено, чтобы лучше разглядеть надпись, снова и снова продолжает водить пальцем по выточенным в камне буквам, и тень его удивительным образом напоминает очертания Иоанна Крестителя работы Леонардо да Винчи, указующего пальцем на Небеса.
Самый молодой из пастухов обернулся к женщине, то ли обращая ее внимание на сделанное ими открытие, то ли ожидая от нее объяснений. Она же, царственно подперев рукой бок и склонив голову, наподобие античной богини (лично мне она напоминает царицу богов Геру), опустила взгляд перед собой. Правая же ее рука то ли снисходительно, то ли утешительно опустилась на спину юноши.
Не надо долго всматриваться в картину, чтобы понять, что именно эта женщина в золотых одеждах является здесь центральным персонажем: она первая, на кого падает наш взгляд.
Кто же она?
Ответ именно на этот вопрос представляется мне ключевым для понимания замысла Пуссена.
За те 400 лет, что отделяют нас от создания «Аркадских пастухов», было выдвинуто немало версий относительно личности этой величественно-прекрасной дамы и функции, которую она на картине выполняет. А персонажей без функции в живописи классицизма нет.
Кто-то видит в ней одну из жительниц Аркадии, такую же пастушку, как трое мужчин. В этой версии я позволю себе сразу усомниться: слишком величава дама, чтобы являть собой простую пастушку. Многие исследователи думают так же и предлагают считать ее аллегорией реки Алфей, протекающей в Аркадии, или просто одной из нимф, населяющих этот благословенный край. Версия с нимфой не сильно отличается от версии с пастушкой, ведь нимфы в той стране – обычное дело.
Однако, если перед нами всего лишь проходившая мимо жительница Аркадии, почему на картине ей отведено особое место?
Еще одно предположение превращает женщину в аллегорию искусства, которое обособить бессмертно. Тогда замысел Пуссена становится сложнее: это уже не горькое признание неизбежности смерти, а надежда на бессмертие через искусство. Иными словами, ему, художнику, смерть не грозит: он останется в веках! Согласитесь, справедливое утверждение, учитывая, что мы до сих пор наслаждаемся его творчеством.
Эта версия лично мне импонирует. Но у нее есть одно уязвимое место: почему Пуссен не наделяет свою аллегорию искусства присущими ей атрибутами, чтобы зрителям легче было проникнуть в его замысел? Ведь мы помним о стремлении художника быть понятым.
Атрибутов аллегории искусства у женщины действительно нет. Но атрибутами богини Пуссен ее все же обеспечил: ее золотое одеяние сверкает на картине, подобно солнцу. Перед нами, скорее всего, действительно богиня. Какая именно, не имеет большого значения. Хотя ею может быть и Гера, параллель с которой я уже проводила.
Зачем она тут? За тем же самым, зачем тут могла оказаться аллегория искусства: рассказать людям об их смертности, «щегольнув» своим бессмертием. Уж не она ли привела пастухов к кенотафу, чтобы показать злополучную надпись? И пока старший из мужчин разбирает слова, самый молодой как будто уточняет: мы тут за этим? Ее подбадривающий жест отвечает на его вопрос.
Справедливости ради надо сказать, что никто из пастухов не напуган открытием. Меланхоличная задумчивость молодого человека слева может быть неверно истолкована как грусть, но он всего лишь погружен в глубокие размышления. Остальные же двое проявляют скорее интерес, нежели печаль по поводу сделанного открытия. Тут важно помнить, что художники XVII века – это христианские художники, даже если они пишут античные сюжеты. А в христианстве не принято оплакивать смертную природу человека, поскольку смерть воспринимается лишь как переход в жизнь вечную. В то время как для античности смерть – это конец.
Женщина облачена в золотое и голубое одеяние – сочетание, которое неоднократно встречается в изображениях Девы Марии. Это цвета божественной славы.
Таким образом, Никола Пуссен соединяет на своей картине два мира – античный и христианский. В Античности он черпает эстетику, в христианстве – замысел. Жители его античной Аркадии существуют в христианской системе ценностей. И античный афоризм «Memento mori [105]» дополняется христианским призывом отбросить страх перед смертью.
Величие несовершенства у Риберы

https://images.eksmo.ru/images/vekovye-tayny-zhivopisi/ribera.JPG
Хосе де Рибера
Хромоножка
1642, Лувр, Париж
Однажды в книге замечательного искусствоведа и популяризатора искусства Кеннета Кларка я прочитала о том, что «луврский “Хромоножка” оказал решающее влияние на французскую живопись XIX века» [106]. В тот самый день я поняла, что, если когда-нибудь буду писать о самых знаковых картинах мировой живописи, этому нищему бродяжке непременно найдется там местечко. И вот сегодня я знакомлю вас с полотном работы испанского художника Хосе де Риберы [107], название которого в русском переводе звучит куда более поэтично, чем на других языках: «Хромоножка» [108].