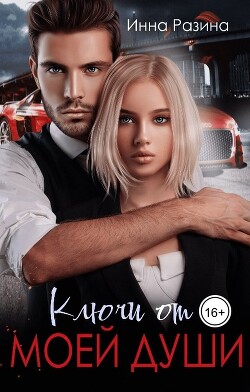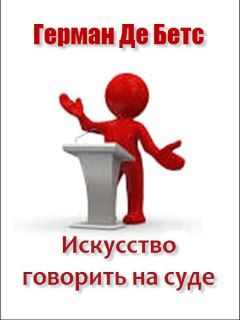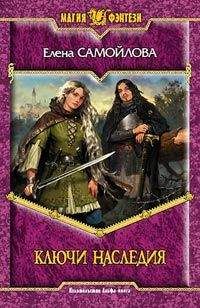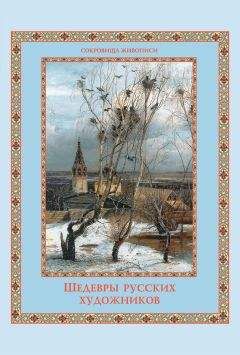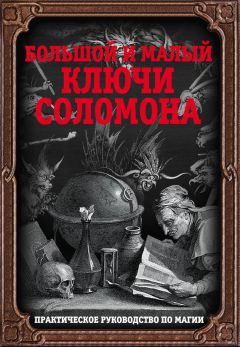Вековые тайны живописи. Ключи к великим шедеврам - Легран Елена
Мощь его живописи в том, что мы видим героев картин буквально стоящими рядом с нами: мы узнаем в них людей – страдающих, скорбящих, смеющихся и злорадствующих. Герои Караваджо всегда пребывают на пике напряжения, страстей, эмоций, они живут настолько полной жизнью, что создается впечатление, будто немного «переигрывают». Отсюда – обвинения в театральности, то и дело звучащие в сторону Караваджо.
Для того чтобы восприятие его произведений имело наибольший эффект, мастер использовал технику изображения, которая получила название «тенебризм» [81] и основой которой был резкий контраст света и тени без того плавного перехода, что был свойственен технике сфумато в работах Леонардо и Рафаэля. Конечно, Караваджо был не единственным, кто пользовался возможностями художественной темноты для мистификации и драматизации происходящего на картинах. Его испанский современник Хуан Санчес Котан [82] мастерски создавал медитативные паузы, помещая черноту между ярко освещенными предметами на своих натюрмортах. Но Караваджо начинает играть с возможностями «свет-тень» настолько виртуозно, что на основе его интерпретации этой техники создается целое течение в живописи, носящее его имя – караваджизм.
В чем же особенность использования тенебризма Караваджо?
Нам, людям XXI века, свойственно забывать о том, что мастера прошлого создавали свои произведения не для музеев и выставок, а для церквей и дворцов. Творчество Караваджо было преимущественно религиозным. Соответственно, его живопись предназначалась для украшения стен капелл [83] и алтарей [84]. А там, как вы понимаете, не было специального электрического освещения, позволявшего бы рассмотреть великое произведение искусства в деталях, как мы привыкли это делать в музейном пространстве.
Даже в светлое время суток церкви были погружены в таинственный полумрак, ведь солнечный свет проникал сквозь украшенные витражами окна довольно скупо, и церковные свечи были тут не великими помощниками, еще более придавая картинам налет мистицизма и потусторонности.
Вот в этой-то атмосфере загадочности и мерцающей темноты и надо представить себе всю силу воздействия живописи Караваджо с его яркими солнечными вспышками посреди темных силуэтов и форм на сознание зрителя, пришедшего искать утешения в молитве.
Особенность тенебризма Караваджо заключалась в том, что художник сам выбирал, что именно на его картине будет освещено ярким светом, а что – погружено во тьму. В этом-то выборе и есть ключ к мощному эффекту, производимому его работами. Сжимающий плеть кулак, собранный в морщины лоб, неестественно вывернутое плечо, гладкая поверхность черепа на столе, безвольно опущенная кисть руки – вот те элементы, которые наш глаз выхватывает на погруженных в темноту полотнах. Они определяют восприятие зрителем того целого, что недоступно его обзору во всей полноте. Как недоступен ему тот невидимый божественный мир, что открывается человеку часть за частью, фрагмент за фрагментом, по мере его следования по пути духовного развития. И только мастеру дозволено решать, какой элемент созданного им мироздания покажется каждому, какой – слегка проявится в полумраке, а какой – будет погружен в вечную темноту.
Обладая этими знаниями, давайте теперь пристальнее приглядимся к одной из самых противоречивых и в то же время духовных картин Караваджо, «Смерть Марии», или «Успение Богоматери», которая украшает сейчас коллекцию Лувра.
В христианской традиции Успение (то есть физическая смерть Девы Марии) не воспринимается трагическим событием. Согласно «Золотой легенде» Иакова Ворагинского, написанной в XIII веке, в 72-летнем возрасте Мария узрела Ангела, сказавшего ей, что земной путь ее приближается к своему завершению. Она пожелала проститься с Апостолами, после чего последние на облаках были перенесены к ней из разных концов земли, где находились, проповедуя учение Христа. Их встретил Апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса, которому тот доверил заботиться о своей Матери. Иоанн предостерег Апостолов от выражения печали, чтобы окружающие не могли сказать с иронией: «Узрите, эти люди проповедуют воскресение, но и они сами страшатся смерти!» [85] После смертного «усыпания» (успения) Богоматери Небеса разверзлись, и Ангелы перенесли ее тело и душу в Рай, где Христос уже ожидал ее, чтобы короновать как Царицу Небесную.
Таков классический сюжет Успения Богоматери. Такого воплощения ожидали от Караваджо и заказчик Лаэрцо Черубини, и духовенство римской церкви Санта Мария делла Скала, в дар которой создавалась картина.
Но получили они совсем иное.
Настолько иное, что священнослужители с возмущением отказались принимать картину с сюжетом, граничащим с богохульством. И если бы не 29-летний художник Рубенс, находящийся в тот момент в Риме с целью собрать коллекцию произведений искусства для герцога Мантуи Винченцо I Гонзага, шедевр Караваджо могла бы ожидать печальная участь быть уничтоженным. Именно Рубенс, прекрасно понимавший, какого уровня живопись находится перед ним, купил опальную картину для герцога, чем спас ее для человечества.
Мысленно поблагодарив Рубенса, о творчестве которого мы поговорим уже в следующей главе, давайте внимательно рассмотрим «Смерть Марии» Караваджо и попытаемся проникнуть в замысел великого религиозного художника.
Конечно же, никакого богохульства в его картине нет и быть не может! Перед нами – одно из самых духовных и глубоких произведений мировой живописи.
Взгляду неподготовленного зрителя предстает обычная, бытовая, прозаичная сцена смерти немолодой и небогатой женщины, возможно, уважаемой в своей деревне, раз у ее тела собралось такое количество бедняков. Судя по их скорбным лицам, они знали и любили покойную. Верный «натурализму» художник не щадит ни Апостолов, ни саму Деву Марию. Вздутый живот, одутловатое лицо и отекшие ноги Богородицы невольно заставляют вспомнить слух, очень похожий на правду, что Караваджо писал ее образ с тела утопленницы. Лишь тонкий нимб у ее головы напоминает зрителям о том, кто именно перед ними. Босоногие и неопрятные Апостолы также не производят впечатление величественных сподвижников Христа. Плачущая Мария Магдалина вскоре должна будет приступить к скорбному ритуалу омовения, для которого уже приготовлен таз у ее ног. Да и сама Богородица лежит уже не на кровати, а на столе для омовения, что еще больше снижает пафосность момента. Или чтобы…
Давайте задержимся на моменте, изображенном на картине, чуть дольше, и посмотрим на то, что тут происходит, чуть внимательнее. Потому что происходит на ней очень много. Но мы так увлеклись бытовой составляющей сюжета, что забыли о главном: художник обладает властью остановить время и превратить мгновение в вечность.
Мгновение – вот, что изображает Караваджо.
Мы стали свидетелями того первого, непроизвольного и очень человеческого мига скорби, который неизбежно сопровождает потерю близкого. Более глубокое и философско-богословское осознание смерти не как конца физической жизни, а как начала жизни вечной приходит следом за этим мимолетным, но таким естественным горем от потери. Этот-то короткий миг и попал в «объектив» художника.
Охваченные человеческой скорбью и не видящие ничего вокруг, кроме родного и любимого существа, которого больше нет с ними, Апостолы не замечают главного – того ослепительного, неземного по своей силе света, который льется на них сверху. Не из окна струится этот свет. Караваджо специально приказал разобрать крышу своей мастерской, чтобы создать эффект света, льющегося прямо сверху, оттуда, где должна быть (и есть!) крыша. И свет этот может исходить лишь от одного источника: это раскрывшиеся Небеса, готовые принять свою Царицу для жизни вечной. Но погруженные в свои скорбные мысли люди (а ведь перед нами именно люди!) пока еще не видят этого света, не ощущают его на себе. Зато его видим мы, зрители, созерцающие творение великого мастера, который, обладая внутренним зрением, умеет показать то, что без него осталось бы скрытым для нас.