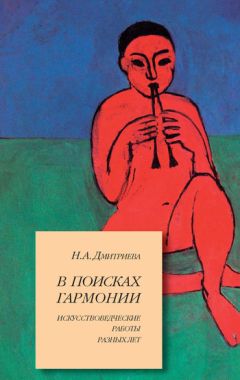Нина Дмитриева - В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет
2 Алпатов М. Этюды по истории русского искусства. Т. II. М., 1967. С. 133.
3 Там же. С. 130.
4 Алпатов М. Этюды по истории западноевропейского искусства. С. 9.
М.А. Лифшиц [43]
В недавнем прошлом советские гуманитарии – философы, историки, филологи, экономисты, искусствоведы, критики – все поголовно были или считались марксистами. Они всосали марксизм-ленинизм с молоком матери и приняли его как данность, не имеющую альтернативы.
Тем не менее за всю свою жизнь я знала только одного воистину убежденного, глубоко искреннего марксиста – Михаила Александровича Лифшица. Наверно, были и другие, но мне не встречались. Я не хочу сказать, что остальные только прикидывались марксистами, – нет, тут были самые разнообразные варианты. Во всяком случае, в среде искусствоведов и эстетиков, мне больше знакомой, я не могу вспомнить ни одного из сколько-нибудь серьезных людей, стоявших «на платформе» марксизма, кто бы не был склонен сойти с платформы хотя бы одной ногой, если бы позволили обстоятельства. Сейчас многие так и сделали. Не думаю, что все они раньше были или теперь стали сознательными приспособленцами. Люди со временем и под влиянием времени пересматривают свои установки, это более чем естественно. Неестественно положение, когда изменять взгляды запрещено. Но М.А. Лифшиц, то ли благодаря своему выдающемуся интеллекту, то ли вопреки ему, не был расположен меняться. Может быть, в этом заключалась его трагедия.
Его научная судьба сложилась парадоксально. Будучи непоколебимым марксистом-ленинистом и живя в обществе, где марксизм-ленинизм был своего рода религией, Лифшиц не пользовался доверием жрецов этой религии. Не знаю, может быть, уже сам блеск его ума отпугивал идеологическое руководство: где ум, там и ересь. Его только что не арестовывали, но всячески придерживали и задвигали в тень. Еще до войны я своими глазами читала в газете объявление о дне защиты его докторской диссертации, но по неясным причинам защиту отложили на многие десятилетия. Когда шли атаки на «Новый мир» Твардовского, в ряду главных ошибок журнала числилась статья Лифшица. Вообще его выступления в печати в лучшем случае замалчивались, в худшем получали полуофициальную отповедь. В итоге его научная карьера оказалась сломленной. В последние свои годы он нашел тихое пристанище под крылом Академии художеств – думаю, не от хорошей жизни. Нынешнему поколению «ортодоксальный марксист» может представиться воинствующим фанатиком или скучным начетчиком. Ни тот ни другой стереотип к Лифшицу не подходит. Скорее, это был человек аристократического склада. Мне почему-то всегда казалось, что он был бы вполне на своем месте где-нибудь среди французских энциклопедистов XVIII века, Дидро или Монтескье, одновременно моралистов и острословов, аристократов и вольнодумцев. Может быть, даже в напудренном парике, но с небрежно распахнутым воротом.
Вероятно, сейчас уже немногие помнят Лифшица в те годы, когда восходила его ненадежная звезда. Мрачные годы – конец тридцатых. Я училась тогда в ИФЛИ на отделении искусствоведения. В отличие от филологов, у меня не осталось каких-либо романтических воспоминаний об этом учебном заведении, хотя оно было, конечно, не хуже, а должно быть, и лучше других. У нас были совсем неплохие учителя, знающие свое дело (свой «предмет»), по мере возможности объезжающие стороной заминированные идеологические поля. Мы были сравнительно в лучшем положении, чем следующее, послевоенное поколение студентов. Нам еще давали читать труды таких авторов, как Вёльфлин, позже изъятые из употребления за иностранность, буржуазность и формализм. Борьба с формализмом в отечественном искусстве уже велась, но в относительно приличном тоне, проработочный стиль еще не набрал полную силу.
Время от времени кого-нибудь из педагогов арестовывали – не за идеологические диверсии, а за что-то никому неведомое. На ученом совете устраивалось ритуальное отмежевание от «врага народа»: выступали его вчерашние коллеги, впрочем довольно вяло, без партийной страсти. Преподавателя древнерусского искусства, почтенного профессора А.И. Некрасова арестовали в тот день, когда он должен был принимать экзамены. Мы пришли на экзамен, долго ждали, в десятый раз просматривая шпаргалки, наконец кто-то позвонил профессору домой, и все стало ясно. Мы были в печальном недоумении. Комсорг сказал, вздохнув: «Что делать! Органы – меч пролетарской диктатуры». Меч поражал и студентов. В один день взяли почти все отделение западной литературы – там было несколько родственников тех, кто проходил по зиновьевскому процессу, других прихватили, видимо, заодно. Они исчезли без шума, и все продолжало идти как бы своим чередом: седовласый профессор Радциг нараспев читал античные гекзаметры, В.Н. Лазарев методично прослеживал изживание готического спиритуализма у художников Проторенессанса. А кто читал нам общественные науки – диамат, истмат, историю партии? Вот уже и не помню. Не осталось в памяти ни фамилий, ни лиц, ни слов.
На таком фоне, не столько драматическом (для нас, уцелевших), сколько унылом, появился новый лектор. Если не ошибаюсь, его курс назывался просто «Теория искусства». Это был факультативный курс, необязательный для посещения, но посещали его не только все студенты, а, как тогда говорили, «вся Москва». Единственный в институте большой зал-амфитеатр всякий раз заполнялся сверху донизу, и еще не хватало мест.
Михаилу Александровичу тогда было тридцать с небольшим; он казался старше – не из-за раннего полысения, а потому что производил впечатление полной зрелости, зрелости личности и зрелости ученого. В том, как он развивал свои мысли, была «структурность», для молодого возраста редкая. И внешность его отличалась пластической завершенностью: четко изваянные черты, а не эскиз, допускающий переделки. Глаза с прищуром смотрели ясно и мягко: казалось, от человека с таким кротким взором скорее можно ожидать христианской проповеди, чем лекции по марксизму. Но христианство было абсолютно чуждо Михаилу Александровичу.
Держался он хорошо и просто, без малейшего высокомерия, однако что-то в нем заранее исключало всякую фамильярность: трудно было представить, чтобы кто-то обратился к нему на «ты» или назвал уменьшительным именем. Словом, это был настоящий мэтр, по крайней мере в глазах молодых слушателей. Он вызывал у нас почтительное восхищение и некоторую робость.
Было известно, что Михаил Лифшиц, Георг Лукач и их единомышленники из журнала «Литературный критик» успешно покончили с вульгарной социологией. Вульгарной ее стали называть только с тех пор, а прежде считали ортодоксальной марксистской наукой о надстройках над экономическим базисом. Как ни странны теперь кажутся рассуждения о том, продуктами каких классов были Пушкин, Гоголь, Тургенев, кто из них выражал интересы крупнопоместного дворянства, кто мелкопоместного, кто нарождающейся промышленной буржуазии и т. д., – до середины 1930-х годов эта методология господствовала и особенно укоренилась в школьных программах. Я перед поступлением в ИФЛИ посещала курсы подготовки в вуз, и нам литература преподавалась именно так и никак иначе.
Журнал «Литературный критик» для своего времени был почти таким же глотком свежего воздуха, как впоследствии «Новый мир». Выходил он недолго – кажется, лет пять. Там, между прочим, была помещена прекрасная статья Андрея Платонова о Пушкине; почему-то ее теперь не вспоминают. Лифшиц печатался в «Литературном критике» изредка, но все считали, что он и Лукач определяют направление журнала. Говорили, что Георг Лукач признавал первенство за талантливым молодым теоретиком, хотя был старше его лет на двадцать.
Разделаться с вульгарной социологией – уже одно это было их большой заслугой. Но ставилась и другая задача – создать в противовес методологию не вульгарную, «работающую» и подлинно марксистскую (немарксистских теорий искусства хватало в недавнем прошлом, но для
Лифшица все они были совершенно неприемлемы). Эту цель преследовал курс лекций, прочитанный в ИФЛИ. На восприимчивой студенческой аудитории Лифшиц проверял и отрабатывал концепцию, которую считал развитием эстетических идей Маркса. Он начинал с обзора уже существующей марксистской традиции – трудов Лафарга, Каутского, Меринга, Плеханова, подвергал их уважительной, но довольно жесткой критике, затем переходил к своей собственной интерпретации.
Вспоминать о Лифшице – значит вспоминать о его идеях: это то главное, чем он жил. Я коротко, конспективно записывала его лекции: записи у меня сохранились. Восстановить по ним текст лекций, к сожалению, невозможно, можно только попытаться выделить стержневые тезисы, насколько я их тогда уловила и поняла. Без облекающей их «плоти» они выглядят оголенно и сухо, как палка вместо дерева, но все-таки некоторое представление дают. Тезисы примерно такие:
1. «Бытие определяет сознание», но а) бытие несводимо к среде, оно шире и объемлет собой всю историческую действительность данного времени; б) высшая ступень сознания – самосознание; оно предполагает способность подняться над своекорыстными классовыми интересами и возвыситься до объективной истины.