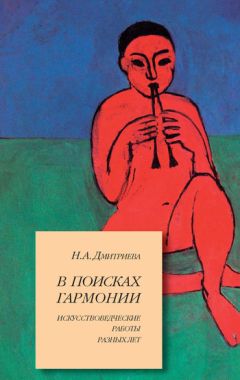Нина Дмитриева - В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет
В структуре и методах власти не так уж много изменилось после смерти Сталина. Государственный террор стал убывать, а остальное сохранялось в прежнем виде. Но внутренние перемены были разительны. (Родившиеся в конце 1930-х годов и позже не могут оценить их в полной мере – им не с чем сравнивать.) Появились «инакомыслящие» – факт огромного значения. Давящий идеологический пресс отменен не был, но он износился и больше не воспринимался как фатум. Мы запоздало осознавали простую вещь: кроме марксизма-ленинизма существовали и существуют другие системы миропонимания. Однако открыто им сочувствовать по-прежнему было нельзя, стало быть, уделом советских гуманитариев оставалось приспособляться и лавировать. Но в искусстве лавирования открывались теперь новые возможности – удаляться подальше от современности, в так называемую академическую науку. В сталинские времена это не срабатывало, уже сам факт такого ухода был криминалом, оценивался как «буржуазный объективизм», «абстрактный гуманизм», «аполитичность», со всеми вытекающими последствиями. Теперь же под критический обстрел чаще попадали те, кто, следуя марксистской традиции, пользовался все той же марксистско-ленинской фразеологией, поминал о партийности, коммунистической идейности, но старался облагородить эти понятия, сомкнув их с общечеловеческими ценностями. Такие авторы легко впадали в ересь, а ведь известно, что в догматических вероучениях еретики всегда считались опаснее неверующих. Но тех, кто привычными идеологическими формулами вообще не пользовался или пользовался минимально, говорил как бы на другом языке, – их оставляли в покое.
Поэтому тридцатилетний период после смерти Сталина не был пустым временем для гуманитарных наук. Появлялись серьезные работы, тем более значимые, чем дальше отстояли от проблем современности. Вот только экономики и философии не было. Экономических познаний общество было начисто лишено; возможно, этим объясняется его неподготовленность к экономическим реформам, так болезненно обнаруживающаяся теперь. Причина, наверно, не в каком-то особенном русском менталитете – просто мы ничего в экономике не смыслили, нас этому не учили. Фактически не существовало и философии: по-прежнему считалось, что философия раз и навсегда сказала свое последнее слово, можно его только «развивать» применительно к разным предметам исследования. Советских философов как таковых не было – зато были достаточно эрудированные специалисты по истории философии. Правда, им приходилось третировать свысока философов всех времен и народов, уличая их в исторической и классовой ограниченности, в незнании или в непонимании марксизма. Все же труды историков философии делали свое дело, оказывая определенное влияние на умы. К тому же начинали печатать кое-что из «чуждого нам» – с трудом, с риском, «для служебного пользования», а главным образом в самиздате. Через посредство героического самиздата и тамиздата мы в семидесятых годах, несмотря на завинчивания гаек, уже прочитали почти все, включая «Архипелаг ГУЛАГ», что с середины восьмидесятых стало публиковаться в журналах.Тогда мы познали сладость «тайной свободы». Но пользоваться открытой свободой не научились и оказались так же не подготовлены к демократии, как и к нормальной экономике. Очевидно, свобода не дается, как именинный подарок, и «прыжок» в ее царство неосуществим – до нее надо доразвиться. «Рожденные в года глухие», вышедшие из сталинской шинели, оказались недостойны свободы. Ее поняли как выпускание на волю как раз тех свойств человеческой натуры, которые надо бы обуздывать: как свободу междоусобиц, свар и драк, свободу неразборчивых сексуальных инстинктов, свободу наживаться любыми способами, употреблять в печати непечатные выражения и громогласно выражать свое мнение, каким бы оно ни было нелепым.
«Свобода есть осознанная необходимость» – не такая уж плохая формула. Вопрос только в том – необходимость чего? Что требуется осознать, чтобы стать свободным? По определению поэта и мыслителя Даниила Андреева, необходимостью является «воспитание человека облагороженного образа». Мы же признавали необходимость вражды и насилия как «повивальной бабки истории», а значит, и сопряженных с этим злодейств. Подавляющее большинство с ними смирялось, а если и не участвовало в них деятельно, то оказывалось в сонме «жалких душ», не творивших ни добра, ни зла, для которых у Виргилия в поэме Данте не находится других слов, кроме презрительного: «Взгляни – и мимо».
Не хочу сказать, что не было творивших добро. Они были: без праведников земля не стоит, но это не снимает исторической вины с поколения «ровесников Октября». Легко все взваливать на Сталина и его приспешников, которые обманывали народ, – но почему же приспешников было так много, а народ так охотно обманывался?
На вечере памяти Александра Меня Сергей Аверинцев сказал, что отцу Александру выпало на долю быть миссионером среди самого дикого племени – советской интеллигенции. Сказано жестко, но во многом справедливо.
М.В. Алпатов – выдающийся ученый, пропагандист искусства, педагог [42]
В двухтомном издании «Этюды по истории русского искусства» М.В. Алпатов объединил свои работы разных лет, начиная с 1930-х и кончая 1970-ми годами: в совокупности они образовали нечто целостное. Это уже само по себе факт замечательный. Далеко не всякий автор решился бы переиздать свои ранние статьи вместе с самыми последними. Так может сделать только тот, кто всегда работал с полной мерой искренности и серьезности, никогда не поддавался конъюнктуре и с самого начала следовал определенным методологическим принципам, в плодотворность которых верил. Потом они, может быть, видоизменялись, но не отменялись. Ученый оставался верен себе и в фундаментальных исследованиях, и в кратких эссе.
В течение десятилетий выходили одна за другой его книги; естественно, среди них были наряду с очень значительными и менее удавшиеся, но не было таких, которые называют «проходными», то есть недостаточно серьезных, случайных «однодневок». Каждая воспринималась как событие, начиная с капитального труда 1939 года «Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто» и до недавнего «Андрея Рублева», удостоенного Государственной премии. Не одно поколение советских искусствоведов на этих книгах воспитывалось, не говоря уже о том, какое значение они имели для молодых художников, да и для всех, кто интересовался изобразительным искусством.
Что всегда импонирует в книгах Алпатова – так это, во-первых, универсальная культура автора, позволяющая ему рассматривать свой предмет в широком историко-культурном контексте, поворачивая его различными гранями, в живых связях с реалиями эпохи – с событиями общественной жизни, с поэзией, философией, нравами, вкусами, обычаями. А во-вторых, нисколько всем этим не заслоняемая, не отодвигаемая на второй план, неподдельная любовь автора к самому явлению искусства как таковому. Вот это, пожалуй, самое главное. Этого никакой эрудицией не добудешь: тут нужен талант, сердце, проникновение. Алпатов – аналитик он много рассуждает, сопоставляет, даже измеряет и чертит схемы, но замечательно то, что своим аналитическим скальпелем он умеет не повредить живых тканей искусства, не нарушить целостности. Произведение искусства остается стоять перед его мысленным взором как самосветящийся кристалл. И никогда не «растворяется» в историческом фоне, как бы широко и импозантно этот фон ни был обрисован.
Исходная методологическая идея М.В. Алпатова, собственно, очень проста: она состоит в том, что «самый надежный источник истории искусства – всегда сами произведения искусства». Не то, что вокруг них, и не то, что по поводу их, а они сами. Поэтому М.В. Алпатов с некоторым раздражением относится к «знаточеству», порой переходящему в крохоборчество: к бесконечным разысканиям и мелочным уточнениям «судеб» произведения, данных по поводу его литературных, иконографических и прочих источников. Хотя и сам он – первоклассный знаток и эрудит, но он против того, чтобы дотошная следовательская «кухня» вместо свойственного ей подсобного места претендовала на главное. Он за то, чтобы как можно пристальнее всматриваться, вдумываться в само произведение как оно есть, как оно создано художником, – и тогда оно само заговорит, расскажет многое, и не только о себе, а и об источниках жизни, его питавших.
Поэтому самый органичный для М.В. Алпатова жанр, в котором он достигает наибольших успехов, – это монографический «этюд»: небольшое по объему исследование об одном каком-нибудь памятнике искусства. Именно здесь ученый с блеском обнаруживает сильнейшие стороны своего метода; здесь он учит нас пристальности взора, способности «войти» в художественный мир и в нем ориентироваться. Причем Алпатов чаще всего берет произведения первой художественной величины, шедевры, такие, о которых, казалось бы, сказано и написано уже достаточно много. Это не смущает исследователя: он верит в неисчерпаемость великих произведений, в возможность открытия в них новых и новых пластов смысла. «Созданные на пересечении великих исторических эпох или в пору наибольшего художественного подъема, они заключают в себе такие огромные творческие силы, что пристальное изучение одного из них ближе подводит к пониманию всего исторического периода, чем беглый обзор десятка или сотни типичных, но заурядных мастеров»1.