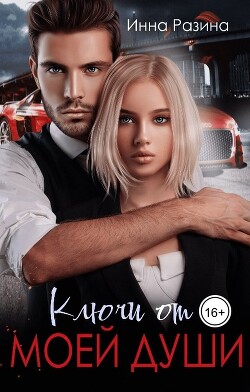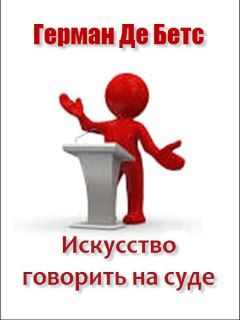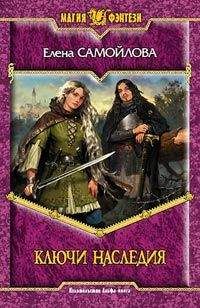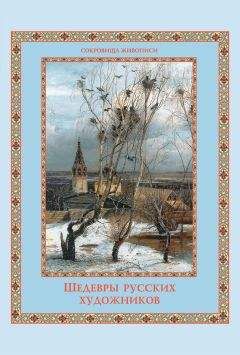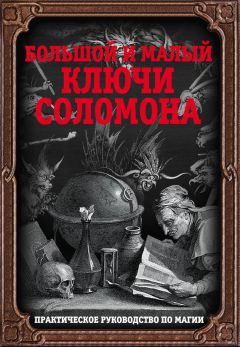Вековые тайны живописи. Ключи к великим шедеврам - Легран Елена
Но охотникам нет дела до трактира: ни один из них даже голову не повернул в его сторону. У них другая цель – и она там, внизу, на дне чаши. Там, где маленькие, словно муравьи, люди неловко скользят по гладкому льду, рискуя поскользнуться (что, кстати, с одним из них уже и произошло) или провалиться в прорубь, зияющую с левой стороны импровизированного катка. Скользкий лед – самый частый элемент зимних пейзажей нидерландских мастеров, вышедших из школы Брейгеля, и один из излюбленных символов опасностей, подстерегающих смертных на жизненном пути. Как и ловушка для птиц, которая тоже тут, в самом центре, напоминает нам о дьяволе, ловце душ человеческих.
В этот мир и направляются три охотника в сопровождении собачьей своры. Собаки так же, как и их хозяева, бредут по вязкому снегу без дороги, где до них не ходил никто, глядя прямо перед собой, не то усталые, не то задумчивые. И лишь одна собака повернула голову – и посмотрела, воздев глаза, прямо на нас. Или на Того, чьими глазами мы смотрим на эту сцену.
Охотники и их «свита» кажутся огромными не только по сравнению с людьми-муравьями внизу, но и по отношению к семье трактирщика, находящейся, судя по тому пространству, что отделяет ее от путников, не так далеко. И эта непропорциональность бросается в глаза настолько сильно, что невольно возникает ощущение, будто охотники присутствуют в каком-то ином измерении. Или пришли в пространство картины из другого измерения. Каким далеким от них кажется мир внизу! Насколько плотно они заполняют пространство левого нижнего угла картины!
Четким равносторонним треугольником спускаются три фигуры в людской мир, полный опасностей и ловушек. Тринадцать собак идут вместе с ними. Дороги нет, но она им не нужна: путь их направлен четырьмя деревьями на переднем плане. Ни одно число на картинах Брейгеля, да и вообще художников этого времени, не случайно, каждая деталь наполнена смыслом, превращая картину в текст, вернее, в проповедь, ведь культура эпохи Возрождения глубоко религиозна.
Давайте же прочитаем текст, оставленный нам Питером Брейгелем на одном из самых значимых и мистических своих полотен. Почему мистических? Да потому, что перед нами – величайший акт милосердия Божьего, момент, когда мир небесный пришел в мир земной.
Сама Троица спускается к людям. Сопровождают ее тринадцать собак – двенадцать Апостолов во главе с Христом. Образ собаки как пастыря стада человеческого уверенно вошел в мир христианской символики вместе с католическими монашескими орденами. Четыре евангелиста – четыре дерева – четыре столпа христианского учения направляют их путь, так что не нужна им дорога.
Дорога остается для людей, там, внизу, между дном чаши и склонами гор. Там она нужна, чтобы направлять человека на пути его духовного роста, символами которого являются гора и дорога, ведущая вверх по горному склону.
Так что не пищу телесную несут охотники людям, а Слово Божье, слово утешения в скорби и надежды на лучшее.
В поиске смыслов у Веронезе

https://images.eksmo.ru/images/vekovye-tayny-zhivopisi/veroneze.JPG
Паоло Веронезе
Пир в доме Левия
1573, Галерея Академии, Венеция
Монументальная картина [52], которая открылась сейчас на ваших экранах, написана 45-летним Паоло Кальяри, более известным нам как Паоло Веронезе [53]. За 18 лет до ее создания Кальяри приехал в Венецианскую республику из Вероны, где родился в семье скульптора и откуда получил свое прозвище. Через 15 лет после ее создания он скончался в Венеции, оставив после себя богатейшее живописное наследие в десятках церквей и монастырей этого города. Картина, о которой пойдет речь в этой главе, занимает среди них совершенно особое место. Я даже возьму на себя смелость утверждать, что по своему значению для мировой живописи она стоит в одном ряду с «Тайной Вечерей» Леонардо [54] или со «Страшным судом» Микеланджело [55].
В наши дни мы знаем это огромное полотно как «Пир в доме Левия». Однако название это условно, как и все названия картин вплоть до XIX века. Впрочем, на самой картине, на балюстраде слева, рукой Веронезе или кого-то из работавших в его мастерской живописцев выведены слова: «Левий дал пир для Господа», а на балюстраде справа – ссылка на Евангелие, из которого взята эта фраза: «Лука, 5:29–39». Что это? Название картины?
Не часто мы получаем от автора XVI века такую ясную и подробную подсказку о сюжете его произведения. Но случай с «Пиром в доме Левия» совершенно исключительный и потому заслуживает с нашей стороны самого пристального внимания.
Трапезной монастыря Санти-Джованни-э-Паоло срочно понадобилась картина, заменившая бы уничтоженную пожаром «Тайную Вечерю» Тициана. Монахи-доминиканцы обратились к более молодому и менее дорогому Паоло Веронезе с заказом на монументальное полотно. Сюжетом его должна была стать, разумеется, «Тайная Вечеря Господа нашего Иисуса Христа». Логично.
Веронезе выполнил заказ – и на свет родилась картина, являющаяся героиней нашего повествования, но с надписью «Левий дал пир для Господа». Нелогично, учитывая заказываемый монахами сюжет. Тайная Вечеря накануне ареста Иисуса и пир, данный одним из учеников Христа Левием Матвеем, – разные события, имевшие место в разное время и в разных местах. Веронезе не знал этого? Перепутал два события? А что же монахи? Разве для них не имеет значения, что за картина размером с небольшую парижскую квартиру висит у них в трапезной?
Наше недоумение имело бы право на существование, если бы Венецианская республика не относилась с такой трепетной бережливостью к своим архивам. Эта трепетная бережливость и предоставила в распоряжение историков уникальный документ – Протокол заседания Трибунала Венецианской инквизиции от 18 июля 1573 года, на котором слушалось дело «Паоло Кальяри из Вероны» [56].
Здесь надо сказать несколько слов о том, что представляла собой Венеция в конце XVI века, ибо без этого знания невозможно оценить всю серьезность и даже опасность положения художника и ту изящную иронию, с которой он из него вышел.
В XVI веке Венеция своими размерами больше напоминала империю: ее итальянские владения простирались вплоть до Милана, а дальше спускались вниз через Истрию и Далмацию [57] вдоль всего адриатического побережья, считая Албанию, к островам современной Греции и включали в себя Крит, Корфу, Ионические острова, а также остров Кипр. Мощнейший флот и доминирование на восточных морских путях делали Венецию не только богатой, но и свободной. Свободной от чьего-либо влияния, в том числе и от Папского престола, заметно усилившего свою власть в итальянских землях в это время.
Римскому гегемону в Венецию хода не было: республиканско-олигархическая форма правления [58] обладала даже собственной инквизицией, помогающей держать в страхе население и пресекавшей любые попытки нарушить стройный политический порядок. Сохранение Республики – вот главная цель двух управляющих органов Венеции, Совета Десяти и Совета Трех Инквизиторов. Дож [59] – лишь послушная кукла в их руках, красивый наряженный истукан. Все управление – в руках полутора десятков человек. «Слабо поощрять даже большие заслуги, жестоко карать даже небольшие преступления» – вот тот девиз, которым руководствовалась Венецианская республика, стойко продержавшаяся 1100 лет (с 697 по 1797 г.) среди огромных «зубастых» монархий! Неугодные Советам люди просто исчезали – и больше о них никто никогда не слышал, а имена их упоминали лишь шепотом и с оглядкой. Зачем Венеции публичные казни? Достаточно вершить дело тихо, под покровом ночи, благо в лагуне много мест, куда можно без лишнего шума сбросить тело опасного для власти человека с привязанным к ногам камнем.