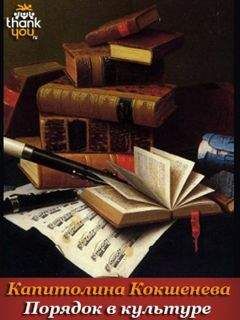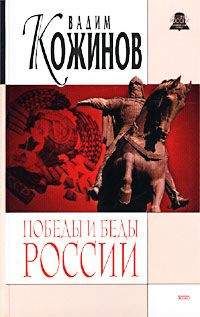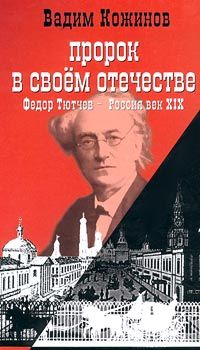Капитолина Кокшенева - Русская критика
Модернизация идеологии, подающаяся как «отказ от идеологии» (прежде всего советской), удивительным образом обернулась такими «особенными чертами» современной прозы как явная ее без-идеальность, а не без-идейность. Идеал умер. И никто не ставил вопроса прямо: о возможности или невозможности и абсурдности жизни без идеала. Социалистический идеал неуклонно исчезал из литературы, но и идеал демократических свобод обернулся осознанием кризиса гуманности. «Оптимистическая трагедия» закончилась «немой сценой», окрашенной в тона исторического пессимизма.
Но, несмотря на отказ критики от «идейного взгляда» на литературные произведения, «неравный брак» литературы и идеологии все же состоялся. Повесть Маканина «Стол, покрытый сукном с графином посередине» (1994 год) опиралась на описание идеологии «честных совков» и «миллионов жалких совков». Не только она, но и другие, взволновавшие критические умы романы, оказались сплошь идеологичны. Идеология в них «спрятана» (в отличие от соцреалистического стереотипа), как контрабандный товар, в багаже «простого описания» («Записки жильца» С.Липкина), «антифилософичности» («Прокляты и убиты» В.П.Астафьева, «Знак зверя» О.Ермакова), модернистской форме «Стол…» В.Маканина). Отстранения от идеологии в реальности не произошло.
О повести Маканина критика писала, что он соединил в ней традицию нравственных исканий русской литературы с европейской формой и мыслью. Нам представляется, что дело тут в другом. Не знающая сюжетного движения, принципиально монотонная, повесть Маканина «Стол…» если и дает возможность разглядеть в себе европейский экзистенциализм, то с очень сильным советским вывертом. Комплекс вины, страха, сосредоточенность на проблеме «я и другие», погруженность сознания внутрь «я» — общепризнанные опоры экзистенциального сознания — в повести оборачиваются фиксацией кризисного, угнетенного сознания героя, привязанного к Столу всеобщего судилища. Кроме того, герой повести, словно наперекор автору, опрокидывает всю его экзистенциальную конструкцию. Он сосредоточен совсем не на собственных глубинах — скорее, напротив, являет читателю полное отсутствие «я»: «Я думаю о них и только о них». Вся «самость» героя в тех, кто ждет его у стола судилища: в Старике, Социально Яростном, Бывшем Партийце, Секретарствующем и т. д. Вся жизнь героя ушла «во вне» — в страх перед очередным Спросом, в бредовые ночные мысли, в которых «мелочевка отношений» вырастает в гигантские размеры, в безобразные химеры «потребляющих» друг друга людей: «они не хотят твоего наказания, тем более они не хотят твоей смерти — они хотят твоей жизни, теплой, живой, с бяками, с заблуждениями, с ошибками и непременно с признанием вины!».
Та же метаморфоза, что и с экзистенциальным «я» героя, происходит с «виной». Писатель выстраивает грандиозную интеллектуальную и идеологическую мизансцену, рассматривая «вину» своего маленького человека в метафизическом (как ему кажется) ряду. Уже потому, что он (ты, я) родился, уже потому, что были в твоей жизни «грязные пеленки», а потом всякие прочие «бяки» и «скользкие места внутреннего роста», — уже потому он (ты, я) виноват. А если виноват, то в этой советской стране будешь непременно подвергнут спросу: сначала — мелкому, а дальше — непрерывающемуся отчету по всей жизни, вплоть до последнего вздоха.
«Метафизическая вина» позволила Маканину обойтись без наполнения ее каким-либо реальным содержанием. Действительно, европейскому рациональному сознанию гораздо понятнее «вина», чем русский трудный вопрос о грехе. Именно в этом месте произошел разрыв писателя с русской традицией — предпочтение отдано виноватому сознанию, предмет преступления которого скрыт в темной глубине рождения. Родился — значит, виноват! Миллионы «совков», по Маканину, рождались только затем, чтобы «жировало Судилище», чтобы обеспечивалась жизнь структуре Спрашивающих.
Итак, «отказ от идеологии» получился весьма специфическим: критика «честного совка», критика Судилища велась именно с идеологических позиций. Позиций либерализма, который начал пробовать свою силу. Оставив своему «честному совку» только рациональное «я», врожденную вину и приобретенный страх, Владимир Маканин блеснул мастерством в описании социальных портретов тех, кто вершит суд, показав и эволюцию суда. Сначала они просто расстреливали; потом, во «времена подвалов», уже расспрашивали; в период «белых халатов» стали претендовать на душу, объявляя виноватых душевнобольными; и, наконец, в результате влияния мировой общественности, перестали вообще претендовать на тело, а души стали уже полностью в Их власти. Ради этой любимой мысли и социальной схемы судилища, видимо, и была написана повесть. Стремясь к полному охвату всех «классов, групп и прослоек» советской структуры, автор вскользь упомянул о тех, кто «не подключил свою душу к спросу». Только в списке этом почему-то одни лилипуты, калеки, дебилы, альбиносы, заики. И лишь пара слов брошена в адрес тех (верующих), кто больше полагается на Суд Небесный, Страшный Суд. Вот по этим-то убогим, в «остатке», людям и можно, на наш взгляд, судить о том, далеко ли ушел писатель от идеологии, если его творческая воля была полностью поглощена пристрастным спросом с «честного совка» и с «этой страны», привязанной к длинному, от Калининграда до Сахалина, казенному столу суда земного. Так можно ли говорить об антиидеологичности «нового периода» в литературе? Ответ очевиден. Нет.
«Вызовом советизму» прозвучал роман В.П.Астафьева «Прокляты и убиты». Вызов заключался в преднамеренном, установочном антигероизме. Астафьев спорил с «советской правдой» о Великой отечественной войне. В целом, о романе нельзя сказать как о постмодернистском, но и Астпафьев, на наш взгля, был задет модернистским сознанием, разрушая принцип целостности образа войны: ведь любая война — это не только кровь, ужас, несправедливость. Тяжелейшие физические испытания в ней сочетаются с победой и сила духа человека. Кроме того, всякая Отечественная война наименее идеологична по своей природе в том смысле, что в ней идеология отодвигается на второй план перед явленным воочию духом нации, силой нации. Принцип национальности, явивший себя в наших Отечественных войнах, Астафьевым был затемнен, искажен, исключен. Принцип национальности был писателем не узнан прежде всего потому, что в войне 1941–1945 гг. он видел именно идеологию (отстаивание советскости), но не национальный плач о возможной «погибели Земли русской», переходящий в мощное победительное состояние народа.
Критика много сказала об «окопном реализме», о «грязной правде» романа В.Астафьева Критика заметила, что нет в романе философского осмысления войны; а «привычный» и «родной» ее образ писатель лишь украсил «шоковыми иллюстрациями» (В.Бондаренко, В.Воронов, М.Золотоносов). Обратившая все свое внимание на «художественную вторичность», «простую описательность» и «эстетическую неизобретательность» романа (М.Золотоносов), испытавшая вместе с тем и шок от столь сильного пафоса («прокляты»!), критика не увидела современного взгляда большого писателя на Великую войну. В своем романе Астафьев смел «идеальный образ» как почвеннического, так и партийно-советского представления о нашем народе. Писатель сблизился с теми прозаиками, которые с нигилистической обреченностью констатируют: вера в то, что «человек — звучит гордо», уже потеряна. Потеряна навсегда.
Современная литература 80-х годов прицельно бьет в одну точку — «правды о жизни и человеке». Недавнее участие в создании ценностей социалистической культуры сменилось полной, тотальной ее критикой. Конечно, Астафьев не написал всей правды о войне, но написал «свою правду» о «быдловом существовании» человека на войне. Ради «правды» в современной прозе описываются и роды, и аборты, ради нее, многострадальной, рассказывают о проститутках и технике «любви». Можно множить и множить подробности «быдлового существования» человека на войне — сцену показательного суда усилить не менее показательным расстрелом братьев Снегиревых, а картины скотской казарменной жизни дополнить забиванием ротным командиром больного солдата. Сколько бы писатель ни стремился к полноте «правды жизни» — реальность войны, безусловно, была страшнее всякого описания и любого изощренного вымысла. Дело даже не в натурализме описания отхожих мест, производящих отталкивающее в эстетическом отношении впечатление. Чего не стерпишь ради правды-истины. Да и что за дело писателю, если мы «падаем», «гибнем» от смертельной дозы яда, если «рвется» душа и мы не можем дышать, придавленные правдой Астафьева?! Не можете в себя ее вместить — не читайте о войне, смотрите детективы и мелодрамы. В ситуации Конца Эпохи все свободны от взаимного оберегания — писатель и сам перестал чувствовать себя кому-то нужным, добровольно готов сойти с высокой кафедры, где всегда, в русском понимании, было его место. Все больше и больше внедряется западный «свободный стиль» в отношения читающей публики и писателя (и Астафьев тут тоже внес свою лепту). Каждый сам по себе, каждый сам для себя живет, думает, страдает и читает. Или не страдает, не думает и не читает.