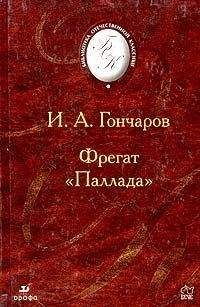Григорий Амелин - Письма о русской поэзии
(I, 63)
«Извозчичье хозяйство» (I, 169) – это, конечно, поэтическое хозяйство, и «извозчичий двор» [Шекспира] (I, 181) – это топос письма, место извоза голоса. Воз оборачивается зовом. А зов толкает в путь. Такой двор – не место, а пучок возможностей, пространство возможных отношений к нему. И это пространство бесконечно, открыто и многоразлично в путях и вехах самореализаций. Все, что проходит, проходит через него, в свою очередь включая в себя это пространство как способ своего движения.
Лирическое «Я» обращается по форме шарады. Возносящийся глас обладает структурой паровоза («пар» + «воспаряющий»), в котором Пастернак добирается до графа Толстого:
Я – пар отстучавшего града, прохладой
В исходную высь воспаряющий. Я –
Плодовая падаль, отдавшая саду
Все счеты по службе, всю сладость и яды,
Чтоб, музыкой хлынув с дуги бытия,
В приемную ринуться к вам без доклада.
Я – мяч полногласья и яблоко лада.
Вы знаете, кто мне закон и судья.
Впустите, мне надо видеть графа.
(I, 95)
[30]Цит. по: Железнодорожный транспорт в художественной литературе. Сборник. М., 1939, с. 11.
[31] Отрываясь от земли, рельсовый путь теперь с успехом может не только уходить вверх, но и спускаться под землю. Например, в «Антоновских яблоках» Бунина (1900): «Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь. ‹…› Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд… ближе, ближе, все громче и сердитее… И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю…» (II, 181). Город же прошит железнодорожными путями и над и под землей. Поезда могут даже проходить сквозь здания и гулять по дому, как коты, подобно тому как это происходит в набоковской «Машеньке»: «Ганину было бы легче, если бы он жил по ту сторону коридора, в комнате Подтягина, Клары или танцоров: окна там выходили на скучноватую улицу, поперек которой висел, правда, железнодорожный мост, но где не было зато бледной, заманчивой дали. Мост этот был продолженьем рельс, видимых из окна Ганина, и Ганин никогда не мог отделаться от чувства, что каждый поезд проходит незримо сквозь толщу самого дома; вот он вошел с той стороны, призрачный гул его расшатывает стену, толчками пробирается он по старому ковру, задевает стакан на рукомойнике, уходит, наконец, с холодным звоном в окно, – и сразу за стеклом вырастает туча дыма, спадает, и виден городской поезд, изверженный домом: тускло-оливковые вагоны с темными сучьими сосками вдоль крыш и куцый паровоз, что, не тем концом прицепленный, быстро пятится, оттягивает вагоны в белую даль между слепых стен, сажная чернота которых местами облупилась, местами испещрена фресками устарелых реклам. Так и жил весь дом на железном сквозняке» (2, 51).
[32]Константин Вагинов. Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бомбочада. М., 1989, с. 81-82.
[33] Например, в «Прозе о Транссибирском экспрессе…» Блэза Сандрара (1913): « Я с глазами закрытыми страны любые легко узнаю по их запаху. / И узнаю поезда по их стуку колес. / Поезда Европы четыре четверти в такте имеют, а в Азии – пять или шесть четвертей. / Другие идут под сурдинку – они колыбельные песни. / И есть такие, чей стук монотонный напоминает мне прозу тяжелую книг Метерлинка. / Я разобрал все неясные тексты колес и собрал воедино частицы шальной красоты, / Которой владею, / Которая мною овладела» [Je reconnais tous les pays les yeux fermés à leur odeur / Et je reconnais tous les trains au bruit qu'ils font / Les trains d'Europe sont à quatre temps tandis que ceux d'Asie sont à cinq ou sept temps / D' autres vont en sourdine sont des berceuses / Et il y en a qui dans le bruit monotone des roues me rappellent la prose lourde de Maeterlink / J'ai déchiffré tous les textes confus des roues etj'ai rassemblé les éléments épars d'une violente beauté / Quejepossède / Etquimeforce] (Блэз Сандрар. По всему миру и вглубь мира. М., 1974, с. 29 (пер. М.П. Кудинова)). Если начинает Сандрар, заметим, с тривиального опознания поездных ритмов, то заканчивает дешифровкой их текстов. Подражание сменяется толкованием.
[34] Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. Стихотворения. Политический памфлет. Проза. Воспоминания. М., 1994, с. 120.
[35] Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.-СПб., т. II, с. 18.
[36] В «Бабьем царстве» Чехова: «Вы покоитесь на ландышах и розах, и вдруг мысль неожиданно налетает на вас, как локомотив, и обдает вас горячим паром и оглушает свистом» (VIII, 285). Из главки «Снова в поезде» «Записок чудака» Андрея Белого: «- И вот выносились вагоны, несущимся оком; и мы, в неотчетливо – сером во всем, снова видели прочертни; снова дыра нас глотала:
– “Тох-тох” – неуклонно металлились грохоты в уши; и – “трах-тахах” – вылетали в мрачневевшие сырости:
– “Та-та” – били нас скрепы рельс; и опять уносились стремительно – в “тохтотанье” туннелей; казалося: упадали удары из преисподней; и – рушились: суши и горы – от скорби; ломались холмы; проступали в туманы неясные пасти, где мы проносились; оттуда валил сплошной дым; волокли мое тело с темнотными впадинами провалившихся глаз в глубины: до-рожденных темнот, иль посмертных томлений, в глубокое дно пролетало, низринувшись, верстное тело мое с перепутанными волосами и грохотом-хохотом било мне в уши; и глаз остеклелою впадиной тело уставилось тупо – в туманы и мраки: – “Познай себя – ты”» (Андрей Белый. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. М., 1997, с. 447).
Предельное увязывания ж/д с такой мыслью о самом себе принадлежит Флоренскому, для которого конкретная метафизика, по словам С. Хоружего, – это своеобразное «Ведомство Путей Сообщения»: «Философия же культа Флоренского обнаруживает еще одно совпадение с античной мистериальной религией, где миссия культа твердо понималась как наведение и блюдение путей либо мостов меж здешним и иным миром. Как подчеркивал в этой связи Вл. Соловьев, то же слово pontifex по-латыни есть и священник, и строитель моста. И отец Павел Флоренский как священник оказывается продолжателем своего отца, бывшего инженером-путейцем» (С.С. Хоружий. Философский символизм П.А. Флоренского и его жизненные истоки. – П.А. Флоренский: proetcontra. СПб., 1996, с. 546). Строка из державинского стихотворения «Бог» «Я связь миров, повсюду сущих…» в устах Флоренского обретает несколько иной смысл – железнодорожной антроподицеи.
[37] Федор Степун. Бывшее и несбывшееся. Лондон, 1990, т. I, с. 223-224.
[38] Л.Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. М., 1962, с. 95.
[39] К. Леонтьев. О романах гр. Л.Н. Толстого. М., 1911, с. 108.
[40] Толстой жалуется Фету в октябре 1875 года, когда застопорилась работа над «Анной Карениной»: «Страшная вещь наша работа. Кроме нас, никто этого не знает. Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать без подмосток, только потратишь матерьял и завалишь без толку такие сцены, которых и продолжать нельзя. Особенно это чувствуется, когда работа начата. Все кажется: отчего ж не продолжать? Хвать-похвать, не достают руки и сидишь дожидаешься. Так и сидел я. Теперь, кажется, подросли подмостки и засучиваю рукава (62, 209).
[41]Борис Эйхенбаум. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974, с. 188.
[42]Переписка Л.Н Толстого с Н.Н. Страховым. 1870-1894. С предисловием и примечаниями Б.Л. Модзалевского. – Толстовский Музей. т. II, СПб., 1914, с. 58.
[43]После встречи под музыку метели в Бологом проходит около года. Анна беременна. Вернувшись домой, Вронский находит записку от нее с просьбой приехать (ч. IV, гл. II.): «Позавтракав, он тотчас же лег на диван, и в пять минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни, перепутались и связались с представлением об Анне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте; и Вронский заснул. Он проснулся в темноте, дрожа от страха, и поспешно зажег свечу. "Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне? Да, да. Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. Да, больше ничего не было во сне, – сказал он себе. – Но отчего же это было так ужасно?" Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине» (18, 374-375). Вронский спешит на встречу. Анна рассказывает Вронскому, что она видела тот же самый сон (ч. IV, гл. III): «Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то; ты знаешь, как это бывает во сне, – говорила она, с ужасом широко открывая глаза, – и в спальне, в углу, стоит что-то. ‹…› И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик с взъерошенною бородой, маленький и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там…
Она представила, как он копошился в мешке. Ужас был на ее лице. И Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу.