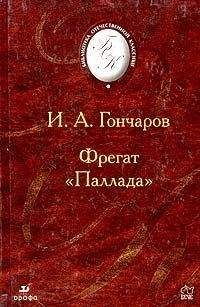Григорий Амелин - Письма о русской поэзии
[59] Томас Венцлова. Статьи о Бродском. М., 2005.
[60] Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 140.
[61] Мераб Мамардашвили. Лекции о Прусте. М., 1995, с. 81.
[62] Ср. мотив повешенности в богоискательской «Исповеди» Льва Толстого: «Давно уже рассказана восточная басня про спутника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодец, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелине колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он все держится и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обрушится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибает; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их» (XI, 17). Эта притча – важнейший источник для самых различных интерпретаций в Серебряном веке. Мы ограничимся лишь одним замечанием относительно Введенского. Для Толстого время как смена дня и ночи (света и тьмы) олицетворяется мельканием черной и белой мыши. В «Серой тетради» не время мелькает как мышь, а сама мышь мелькает, мерцает как время, но это уже другое время, позволяющее избежать смерти и в противоборстве (а не равнодушной смене) света и тьмы, хаоса и космоса упорядочить движение.
[63] Максимилиан Волошин. Лики творчества. Л., 1968, с. 101.
[64] Там же, с. 100, 99, 101.
[65] В «Разговоре о Данте» Мандельштама: «Когда понадобилось начертать окружность времени, для которого тысячелетие меньше, чем мигание ресницы, Дант вводит детскую заумь в свой астрономический ‹…› словарь» (III, 219).
[66] Андрей Белый. Петербург. Л., 1981, с. 344, 346-347.
[67] Константин Вагинов. Козлиная песнь. М., 1991, с. 12.
[68] Андрей Белый. Петербург. Л., 1981, с. 85.
[69] «…Это постижение (мира как мерцающей мыши. – Г.А., В.М.), – считает Подорога, – Введенский связывает с номинативной редукцией (мы теперь не знаем даже, что такое “шаг”, ни что такое “каждый”, ни что такое “камень”, не знаем даже, что такое “мышь”). Мы теперь не знаем имен и видим лишь мерцание множества “точек времени”, которые разложили движение мыши настолько, что она превратилась в сплошное мерцание. Видим, пытаемся подсчитать эти ускользающие мгновения мерцаний, но усилия напрасны – время останавливает свой мышиный бег, ибо мышь перестает быть мышью и становится миром. Другими словами, слово “мышь” больше не может быть означающим, ему не удержать эти точки времени, их “посев”, ту непостижимую быстроту “мира”, который стала мышь. ‹…› Имени “мышь” больше не существует, и язык не в состоянии доказать нам обратное» (К вопросу о мерцании мира. Беседа с В.А. Подорогой. – «Логос». 1993, № 4, с. 145-146).
[70] Там же, с. 146.
[71] Так, например, у Хармса: «Части [мира] отвечали: Мы же маленькие точки. И вдруг я перестал видеть их, а потом и другие части. И я испугался, что рухнет мир. Но тут я понял, что я не вижу частей по отдельности, а вижу все зараз. Сначала я думал, что это НИЧТО. Но потом понял, что это мир (то есть другой, новый, воссозданный заново. – Г.А., В.М.), а то, что я видел раньше, был не мир» (Даниил Хармс. Полет в небеса. Л., 1988, с. 314; ср. у Введенского – I, 146-147).
[72] Даниил Хармс. Полет в небеса. Л., 1988, с. 146.
[73] Марсель Пруст. В поисках утраченного времени. В сторону Свана. Л., 1992, с. 7 (пер. А.А. Франковского).
[74] Артуро Перес-Реверте. Клуб Дюма, или Тень Ришелье: Роман / Пер. с исп. Н. Богомоловой. М., 2002.
[75] Елена Душечкина. Светлана. Культурная история имени. СПб., 2007, с. 16-17
[76] В.А. Жуковский. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Т. 3. Баллады. М., 2008, с. 32-33.
[77] Подробнее см.: В.Я. Мордерер. Бенедикт Лившиц. «Игра в слова». – Михаил Кузмин и русская культура ХХ века. Тезисы и материалы конференции 15-17 мая 1990 г. Л., 1990, с. 90-95.
[78] В переводе Семена Рубановича:
И, чтобы смыть всю горечь без следа,
Вберу я яд цикуты благосклонной
С концов пьянящих груди заостренной,
Не заключавшей сердца никогда.
Шарль Бодлер. «Лета»
[79] Пастернак писал: «Царство растений так легко себе представить ближайшим соседом царства смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов, может быть, блуждают наши чаяния воскресения мертвых и жизни будущего века. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за другого. Ей представилось, что это вышедший из питомника при погосте садовник. (Она же, мнящи, яко вертоградарь есть…) Как естественно вообразимы этот выход из-за гущи кустов и деревьев и кратковременность нечаянной встречи на ходу, с предостерегающим: “Не прикасайся ко мне, Мария”…» (III, 618).
© 2001 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал"
This file was created with BookDesigner program [email protected] 14.01.2009