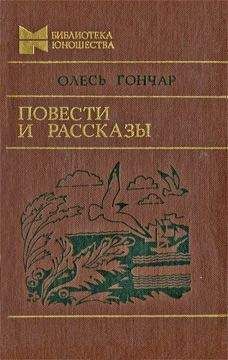Лев Пирогов - Упирающаяся натура
(Перед этим, когда Винберг хвалит виолончелиста Даниила Шафрана, Дулин сперва было тоже думает неприязненно: «Вот какой народ, как они всё же своих любят», — но тут же поправляется: «А что плохого? Все так устроены, всем свои ближе».)
Вроде бы получаем подтверждение сказанного: один народ, несмотря ни на что, продолжает себя беречь и любить, другой — казнит и ненавидит себя, в том числе и в собственном своём лице. Но какова цена такой любви и такой ненависти?
Для Людмилы Улицкой, любившей прежде побаловаться самым безопасным из наших многонациональных национализмов, это значительный шаг вперёд. Как и прощение Полушки, оказавшейся не виноватой во вменяемом ей «порядочными людьми» предательстве, как и трезвая оценка моральных качеств Ильи — главного романного душки, как и похвала участковому Кусикову, законченному негодяю по анамнезу и вместе с тем, надо же, хорошему человеку.
Нет, читать роман под сословно-племенным микроскопом не хочется. Когда простой советский разнорабочий Миха Меламид, загнанный в тупик всеми мыслимыми и немыслимыми обстоятельствами: собственными душевной чистотой и пылкостью, друзьями, врагами, возлюбленной, — кончает с собой, чтобы не совершить предательства, ты сам уже готов «подписать протокол», в котором помимо высокого пушкинского «делать нечего» числятся и сдача Тулы немцам во время Великой Отечественной (что там на глобусе той Тулы), и ошибка в словах известнейшей православной молитвы (сами-то — хорошо помним?), и сущий ангел академик Сахаров (это просто праздник чистых тарелок какой-то, хоть сейчас в Мавзолей), и коньки, за которые без суда и следствия был казнён неинтеллигентный Мурыгин. Всё прощаешь, всё не глядя подписываешь. (Хотя женщины, наверное, предпочтут главу «Зелёный шатёр», недаром же и весь роман так называется.)
Михин подвиг — совершённый от слабости, и не подвиг, а смертный грех — заставляет приблизиться к пониманию того, что жизнь действительно бывает «такая», что «ничего не поделаешь», — не только в коммунально-кухонном, постирушечном смысле. И те, кто «шептал про свободу», никак не меньше люди, чем те, кто твердил «поехали». Не нам их судить. Я жил иначе, мои родители жили иначе, сотни тысяч читателей жили иначе и помнят другую жизнь, но это нас Бог хранил. За это нужно быть благодарным, а гордиться этим нельзя. «Скромней надо быть» — от этого и добрее будешь.
Но!..
Если бы роман на этом заканчивался…
Взяв высокую ноту, автор почему-то напоследок словно вынимает тебя из чистой воды и возюкает в мыльном тазике: «Ну вот, теперь совсем хорошо».
Я долго не мог понять: почему? Потом осенило. Улицкая считает заключительную главу ещё более высокой нотой.
Речь об эпилоге — «Конец прекрасной эпохи».
То, что автор придаёт ему нешуточное значение, ясно из состоявшегося здесь разговора Сани и Лизы о «лоскутной культуре» и «циклическом времени», в котором «новое неотличимо от старого». Это ключ к пониманию грешащей хронологическими нестыковками и смысловыми повторами композиции романа: «одеяло, сшитое из лоскутков».
Саня с Лизой пришли в гости к поэту Иосифу за несколько часов до его смерти. Поэт Иосиф — главное оправдание той эпохи, которую героям довелось относительно благополучно пережить. Строго говоря, она и случилась-то лишь затем, чтобы выпустить из своих жутких огнедышащих недр истинный алмаз — поэта Иосифа. Но чем же именно поэт Иосиф её оправдывает?
Высоким трагизмом судьбы, как Миха Меламид в главке с пастернаковско-энтомологическим названием «Имаго» (конечная стадия развития крылатого насекомого, освобождение души)? Нет, нет.
Войдя к поэту, «Саня бросил взгляд на стол — там лежала раскрытая римская антология. Совпали, как часто бывает. У Сани дома был раскрыт Овидий».
Вот, оказывается, зачем всё было. Люди гибли, чтобы выжившие могли поговорить о музыке и стихах. «Мир существует, чтобы войти в книгу».
Есть такое правило: хочешь понять, «что автор хотел сказать своим произведением», — внимательно перечти конец, посмотри, «чем сердце успокоилось». В Саниной судьбе важным оказалось то, что на столе у него Овидий и «Хорошо темперированный клавир», а не то, что когда-то, спасая друга, он схватился рукой за нож. Мне это показалось катастрофическим снижением пафоса.
И вот ещё почему. Культ Бродского как «Пушкина XX века» кажется мне совершенно не имеющим отношения к пониманию искусства, которое, в свою очередь, есть прежде всего искусство понимания жизни. Ну как культ кинорежиссёра Тарковского, например.
Они похожи. У Тарковского — Брейгель, Бах и иконы («вот эта краска называется киноварь»), у Бродского — «римская антология». От поклонников обоих веет неофитским самодовольством и дремучестью, как от студента-второкурсника, достигшего определённых высот самоуважения по сравнению с второсортным первокурсным собой. На обоих лежит это несмываемое клеймо — «уважения по сравнению». По сравнению с чем-нибудь советским, с чем-нибудь лапотным, по сравнению с «настоящим, как на Западе», с «вечным» и «мировым».
И, как нет в отечественном искусстве ничего более унылого и советского (в плохом смысле), чем «андеграунд», так и оба они, Тарковский и Бродский, были идеальным предметом культа для советского мещанина-образованца. Допрыгнуть до Овидия — для чего? Чтобы с высоты плевать на «совок». Подобным образом люди совершенно справедливо реагировали на желание самих Бродского и Тарковского быть «вне времени», на их собственный карго-культ в отношении дефицитной «Культуры».
…Бросил взгляд на стол — там лежал небрежно распечатанный блок «Мальборо». Чётко совпали. На Сане были «родные», не индийское барахло, «Ливайсы».
Кабы не этот эпилог, я бы всё по-честному подписал, товарищ следователь, клянусь. А теперь не буду.
Настораживает меня роман, успокаивающийся на «Ливайсах». И какой толк в «лоскутной композиции», если с добавлением каждого нового лоскутка смысл не наращивается, герой не движется от частного к общему, от малого к большому, а раз за разом, соскальзывая с шестерёнки сюжета, возвращается к самому себе, лишь только обрастая мусором смахивающих на сплетни подробностей?
Для чего эта тщательная, доверительно бубнящая на ухо стилистика: «кто с кем, сколько раз, почём», — как в журнале «Семь дней»?
Что это я вообще читал только что?
Где мои законные двадцать процентов?!
Простота лучше воровства, или о чуде Божьем
Смотрели с сыном фильм «Человек-паук», третью часть. Ну, то есть мы с женой смотрели, а он рядом крутился.
Хороший фильм.
Один только вопрос у меня возник. Если бы Песочный Человек сразу объяснил Человеку-Пауку, что грабит инкассаторов, потому что нужны деньги на лечение тяжелобольной дочери (в США почти у четверти граждан нет медицинской страховки), — что тогда наш супергерой, такой чуткий и справедливый, стал бы делать?
Наверное, сказал бы, что всё равно грабить нехорошо. Давай, мол, я лучше устрою благотворительную акцию в пользу твоей девочки. Люди помогут.
А назавтра бы к нему выстроилась очередь из миллиона родителей больных детей. Вот тогда бы я и посмотрел, как он будет спасать мир. Вот это было бы действительно интересно.
Впрочем, судьба больной девочки так и осталась невыясненной — до неё ли после таких схваток, таких полётов? Спасение человечества стоило слезинки ребёнка.
Порою, чтоб понять Достоевского, нужно принимать его вкупе с «Человеком-пауком». Как витамины с жирной пищей, чтоб лучше усваивались.
Этот рецепт: «содержательность плюс занимательность» — давно искушает литературные умы. Берёшь мудрую хорошую мысль, от которой множеству людей должно стать хорошо на душе, смазываешь жирком, обваливаешь в сухарях, обжариваешь — сотни тысяч прочтут. А не смазываешь, не обжариваешь — так и остаётся она мудрой, хорошей, но никому не нужной, а следовательно, и бесполезной мыслью.
Жаль только, что в процессе жарки вырабатываются канцерогены…
Иначе говоря, следует ли писать под Бориса Акунина, невозбранно ли это? Или лучше всё же под Достоевского?
И, кстати, сам Достоевский — он под кого писал? (Ну ведь страсти же, ступкой по голове, любовницы зарезанные…) Эх-эх.
Когда вышла первая книга Олега Зайончковского «Сергеев и городок», я вменял ему в вину непроявленность гражданской позиции. Где песни протеста, где мысль народная, где сполохи идейной борьбы?
Долго не мог понять, что Зайончковский принадлежит к тем людям, которые выбирают не свет, но покой. Он пишет о том, чего ему, может быть, больше всего не хватает в жизни, — о том, что все люди вокруг хорошие.
А вот Достоевский писал о том, что все плохие. Всех жалко, все заслуживают молитв, но — потому что плохие, а не наоборот.