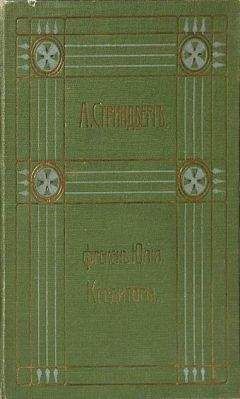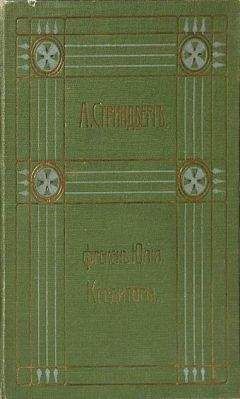Август Стриндберг - Полное собрание сочинений. Том 1. Повести. Театр. Драмы
Стало смеркаться. Окно было открыто. Лишь цветы в зале, на столе, напоминали мне о том, что было лето. В вечернем освещении они стояли тихо, без движения, издавая благоухание.
Вдруг я услышал ясно, отчетливо, как бы из соседней комнаты, могучее allegro лунной сонаты, развернувшейся подобно исполинским фрескам. Я видел и слышал в то же время. Не будучи уверен в том, не обман ли это, я почувствовал трепет, овладевающий человеком перед необъяснимым. Музыка слышалась из соседнего дома, где жили мои незнакомые благодетельницы, а они были на даче! Но они могли вернуться в город за каким-нибудь делом! Всё равно! Музыка играла для меня и я принял этот факт с благодарностью, чувствуя, что у меня есть общество в одиночестве и что я нахожусь в общении с одинаково настроенными детьми рода человеческого.
Когда я теперь вспоминаю, что это «allegro» повторилось три раза в течение длинного часа, то это обстоятельство представляется мне еще менее объяснимым; но тем большее удовольствие оно мне доставило. А то, что игралась не другая какая-нибудь пьеса, я принял, как особую милость.
Наконец, часы пробили десять и добрый, милосердый сон завершил день, который мне долго будет памятен.
VI
Лето дотянулось до и-го августа; фонари зажигаются и я приветствую их. Это — осень, следовательно, время идет, а это — главное; кое-что оставлено позади и кое-что лежит впереди. Город меняет свой облик. Можно встретить знакомое лицо, и это успокаивает, поддерживает и ободряет. Я могу даже обменяться словом, и это для меня ново, так ново, что мой голос по недостатку упражнения понизился в регистре, звучит глухо и мне самому кажется чужим.
Стрельба на поле прекратилась; соседи вернулись с дачи; собака опять лает день и ночь и снова начались семейные вечера; их забава заключается в том, что по полу бросается кость, и собаки с резким лаем кидаются за нею; они огрызаются, когда у них эту кость отнимают.
Телефон работает и игра на фортепьяно идет своим чередом. Всё как было, всё возвращается — кроме майора, объявление о смерти которого я сегодня утром прочел в газетах. Мне его не достает, так как он принадлежал к моему кружку, но я рад за него, ибо ему скучно стало с тех пор, как он выслужил свой срок.
Осень торопится и жизнь идет быстро, благодаря свежему воздуху, которым легче дышится. Я снова выхожу по вечерам, окутываясь в темноту, делающую меня невидимым. Это укорачивает вечера и заставляет меня крепче и дольше спать.
Привычка обращать пережитое в литературу открывает клапан для избытка впечатлений и заменяет потребность в разговоре. Переживаемое в одиночестве получает окраску преднамеренности и мне кажется, что многое из того, что случается, как бы нарочно для меня разыгрывается.
Так, однажды вечером, я был свидетелем пожара в городе и в то же время слышал вой волков со Скансена. Эти два конца различных нитей связались в моем представлении, соединились в одно и, при надлежащей основе, из них совалось стихотворение.
ВОЛКИ ВОЮТ.Волки воют на Скансене, льдины рычат на море, сосны трещат на горах, обремененные первым снегом.
Волки воют от холода, собаки отвечают из города, солнце закатилось после полудня, заднем наступила ночь.
Волки воют в темноте, уличные фонари, подобно северному сиянию, бросают вверх лучи света над громадами домов.
Волки воют в яме, теперь у них зубы в крови. Увидав зарево северного сияния, они тоскуют по скалам и дремучему лесу.
Волки воют на горе, воют от злости до хрипоты, ибо люди взамен свободы обрекли их на заключение и безбрачие.
* * *Ветер притих, тишина воцарилась, часы на городской башне пробили 12. Молчаливые сани скользят по дороге, как по навощенному полу, звонок последней конки прозвенел, ни одной собаки ни слышно на улице, город спит, фонари тушатся, ни одна ветка на дереве не шелохнется; небесный свод, черный, как бархат, замыкается в бесконечной глубине.
Меч Ориона висит высоко. Большая Медведица — совсем отвесно. Огни в очагах потухли, лишь вдали стоит дым, из трубы, наподобие обелиска; он поднимается, как из исполинской кухни, — это пекарня, которая готовит нам насущный хлеб наш по ночам…
Дым подымается, синевато-белый, но вот теперь он окрашивается в красный цвет.
Это огонь, огонь, огонь!
И подымается красный раскаленный шар, подобно полному месяцу, и этот огненный цвет переливает в белый и желтый и вылупляется, как подсолнечник из оболочки…
Не солнце ли это подымается среди черных, как уголь, туч над целым морем домов? Там, где крыши представляют собою гребни волн, черных, как могилы.
Но вот небо в пламени, каждая башня, каждый купол в городе, каждый шпиль и шест, каждый закоулок, каждый фронтон стоит освещенный, как днем. Все кабели и медные проволоки покраснели, как басовые струны арфы. По фасадам домов, все оконные стекла в огне и — покрытые снегом. Трубы блестят, как костры. Это ни солнце, ни луна! Ни фейерверк, нарочно устроенный!
Это огонь, огонь, огонь!
На горе, которая только что лежала в ночной тиши — свет и жизнь. Из волчьей ямы подымается вой, как будто их режут ножами без ненависти и мести. Это — наслаждение поджигателя, это — радость убийцы; и когда из лисьей норы идет громкий смех, то делается и радостно, и страшно, и приятно.
И в медвежьей берлоге пляшут на задних лапах с хрюканьем, подобным убиваемых свиней, но в рысьих норах тихо, и виден лишь блеск оскаленных зубов.
* * *Тюлени вопят, горе, горе городу! вопят, как тонущие в море, и все собаки воют хором, лают, визжат и тявкают, гремят цепями — и цепи стонут, плачут и ноют, как души погибших. Они имеют сострадание, только они, собаки, к своим друзьям — людям. Какая симпатия!
Но вот просыпаются лоси, князья северных лесов; собирают и вытягивают свои длинные задние ноги; пробегают рысью по ограниченному кругу, в пределах изгороди, толкутся у ворот загона, как воробьи в оконные рамы, и ревут, не понимая, и спрашивая себя, не день ли уж снова наступил.
Новый день, подобный всем другим, столь же убийственно длинный, без иной видимой дели, кроме цели — быть смененным ночью.
Тогда мир пернатых оживляется. Орлы кричат и бьют своими бессильными крыльями, напрасно пытаясь взвиться в высь, ударяются головою о железные решетки, кусают их, царапают, карабкаются по ним до тех пор, пока не падают на землю и лежат там в бессилии, влача крылья, как бы на коленях умоляя об окончательном ударе, который вернул бы их на волю, даровал бы им свободу.
Соколы свистят и летят, как пернатые стрелы то туда, то сюда; филины стонут, как больные дети. Смирные дикие гуси проснулись и с вытянутыми шеями затянули как бы аккорд пастушечьего рога.
Лебеди молчаливо плывут и, между льдин, хватают отражения пламени, мелькающие подобно золотым рыбкам. На поверхности пруда, белые лебеди спокойно опускают свои головы в темную воду до самого дна, чтобы не видеть, как пылает небо.
Снова темнеет; пожарные свирели замолкли в городе и деревне; и облако дыма протягивается над городскими контурами, как бы огромной черной рукою.
Мое общество ограничивается отныне безличною беседою с книгами. Бальзак, пятьдесят томов которого были моим чтением за последние десять лет, сделался моим личным другом, никогда не надоедающим мне. Им не было создано никакого, так называемого, произведения искусства, особенно согласно современным понятиям, в которых искусство смешивается с литературою. Всё у него безыскусственно. У него никогда не видно композиции и я никогда не замечал его стиля. Он не играет словами, никогда не щеголяет ненужными картинами, относящимися, впрочем, к поэзии; но у него, напротив того, такое уверенное чувство формы, что содержание всегда получает ясное выражение, в точности соответствующее данному слову. Он пренебрегает прикрасами и действует непосредственно, как рассказчик в обществе, который то излагает событие, то вводит разговор действующих лиц, то комментирует и объясняет. И всё для него — история — современная ему история; любая, даже незначительная, личность выступает в освещении современной ему эпохи и, кроме того, имеет историю своего происхождения; и развитие её происходит при той или иной форме правления; это расширяет точку зрения и дает фон каждой фигуре.
Я изумляюсь непониманию, с которым писали о Бальзаке его современники. Этот верующий, простой, миролюбивый человек называется в учебниках, относящихся к годам моего студенчества, немилосердным физиологом, материалистом и т. и. Но еще больше парадокса в том, что физиолог Зола приветствовал Бальзака, как своего учителя и великого мастера. Ну, как понять это? То же самое происходит и с моим другим, литературным другом, — Гёте; в последнее время его толкуют на всевозможные лады, видят в нём преимущественно воскресителя язычества. Гёте, действительно прошел много стадий на своем жизненном пути; через Руссо, Канта, Шеллинга, Спинозу достигает он своей собственной точки зрения, которую можно назвать просветительно-философской. Он разрешил все вопросы, он так прост и ясен, что дитя может понять его. Но наступает время, когда пантеистические объяснения необъяснимого оказываются недостаточными. Семидесятилетнему старцу всё представляется своеобразным, замечательным, непонятным. Тогда выступает вперед мистик, и на помощь призывается сам Сведенборг. Но ничто не помогает. Фауст (второй части) склоняется перед Всемогущим, примиряется с жизнью, делается филантропом (возделывателем мха), наполовину социалистом и обожествляется со всеми атрибутами католической церкви, начиная с учения о страшном суде.