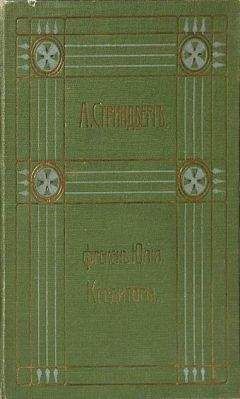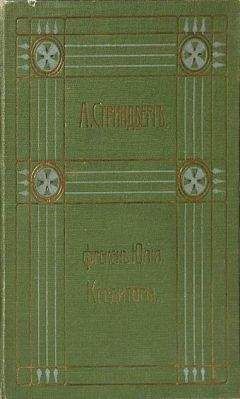Август Стриндберг - Полное собрание сочинений. Том 1. Повести. Театр. Драмы
Каково будет свидание? Этот страх в момент узнавания, когда напрасно ищешь хорошо знакомые черты детского лица, черты, которым старался путем воспитания с самой колыбели придать наиболее человечное выражение. Воспитывая своего ребенка, стараешься приложить к делу свои высшие способности, чтобы таким образом вызвать отражение своих лучших свойств на образующемся детском лице, которое любишь, как более совершенное издание своего собственного. Теперь же приходится видеть его обезображенным, ибо подрастающие юноши некрасивы, черты лица у них не пропорциональны, как смешение сверхчеловеческого в ребенке с пробуждающуюся животною жизнью юноши, намеки на страсти и борьбу, страх перед неизвестным, раскаяние в испытанном; и этот постоянный невоздержанный смех надо всем, ненависть ко всему, что тяготело над ними и давило их, ненависть, следовательно, к старшим, к лучше наделенным; недоверие ко всей жизни, которая только что обратила безобидного ребенка в хищника. Мне было это хорошо известно по опыту и я помню, каким отвратительным юношей я был, когда все мысли, против воли, вращались лишь вокруг еды, питья и грубых наслаждений.
Мне незачем было видеть того, что я знал заранее и в чём был неповинен. Положение вещей обусловливалось самою природою. Будучи разумнее своих родителей, я никогда ничего не ожидал от своего сына. Я воспитал его к свободе и с самого начала просветил его насчет его прав, а вместе с тем и обязанностей по отношению к жизни, себя самого и ближних. Я знал, что он явится с бесконечно широкими требованиями, хотя его права по отношению ко мне прекратились, когда ему было еще 15 лет. Я знал также, что он будет смеяться, едва я заговорю о его обязанностях; я знал это по собственному опыту.
Если бы вопрос был в одних деньгах, то еще туда сюда, но он может предъявить требования и к шей личности, несмотря на то, что презирает мое общество. Он может требовать домашнего очага, а я его не имею, — моих друзей, у меня их нет, — моих связей, в предположении, что у меня таковые имеются. Наконец, он может употреблять мое имя для собственного кредита.
Я знал, что он, пожалуй, найдет меня скучным, чего доброго, явится со взглядами чужой страны, с иным миросозерцанием, с иными правилами общежития; что он обойдется со мною, как со старой завалявшейся рухлядью, ничего не понимающей; потому что я не инженер, не электротехник.
Как развились черты его характера за эти годы? Опыт научил меня, что каковым родился, таковым, с небольшими изменениями и остаешься на всю жизнь. Все люди, которых мне приходилось наблюдать при прохождении ими жизненного пути, к 50-ти годам оставались похожими на себя, с незначительными разве изменениями. Многие из них подавили свои яркие черты характера, как непригодные к жизни в обществе, — другие скрыли их под легкой политурой, но, в сущности, они оставались всё теми же. В исключительных случаях, известные свойства или черты характера перерождались, у одних вверх — в добродетели, у других же — вниз, т. е. вырождались в порок. Напр., я знал человека, твердость характера которого выродилась в упрямство, его любовь к порядку — в педантизм, его бережливость — в скупость, любовь к человечеству — в ненависть к нечеловеческому. Но я помню также людей, ханжество которых перешло в набожность, ненависть — в снисходительность, упрямство в твердость…
После этих размышлений я вышел на свою утреннюю прогулку, не для того, чтобы отогнать мучительное, но лишь желая приготовиться к неизбежному. Я обдумал все возможные положения встречи. Но когда я дошел до вопроса о том, что произошло со времени нашей разлуки и до сего дня, я содрогнулся и подумал, было, бежать из города, покинуть страну. Однако, опыт научил меня тому, что спина — самая чувствительная сторона и что грудь прикрыта костяными щитами, предназначенными для обороны. Поэтому я решил остаться и принять удар.
Закалив таким образом свои чувства и став на точку зрения практического, черствого светского человека, я выработал свою программу: я помещу его в пансион, снабдив его одеждою, спрошу его, чем он хочет быть, тотчас же достану ему место и работу, а главное, буду обращаться с ним, как с посторонним господином, которого, за недостатком доверия, держат на отдалении. Чтобы защититься от его назойливости, я не заикнусь о прошедшем, предоставлю ему полную свободу, не дам никакого совета, так как всё равно он никакому совету не захочет последовать.
Так решено, и дело с концом!
С ясным и спокойным духом вернулся я домой, однако в полном сознании перемены, наступившей в моей жизни, перемены столь большой, что дороги, ландшафт и город приняли для меня новый вид. Когда я дошел до середины моста и посмотрел вверх по аллее, я увидел фигуру молодого человека… Я никогда не забуду этой минуты. Он был высок и худ, шел той нерешительной походкой, какой идешь, когда ожидаешь или ищешь чего-нибудь. Я заметил, что он рассматривал мое лицо и узнал меня; сперва дрожь пробежала по нём, но он тотчас же подтянулся, выпрямился и перерезал аллею, держа курс прямо на меня. Я принял оборонительное положение, прислушался к взятому мною легкому радостному тону приветствия: «здравствуй, дитя мое».
Но вот, несколько приблизившись, я заметил, что это был неудачник, опустившийся человек. Этого я более всего боялся. Шляпа была не по его голове, как будто чужая. Панталоны дурно сидели, коленки приходились слишком низко; всё выглядело изношенным… внутреннее и внешнее падение; тип — лакея без места. Еще немного, и я мог рассмотреть лицо, неприятно худое, мог видеть глаза, большие, голубые, с синевато-белыми кругами. Это был он!
Этот падший, истасканный юноша был некогда ангельским ребенком; его улыбка заставляла меня разбивать теорию происхождения человека от обезьяны; некогда он был одет, как принц, и играл с настоящею принцессой в Германии.
Весь страшный цинизм жизни предстал передо мною, но без тени самообвинения; потому что не я покидал его!
Вот мы всего лишь на расстоянии нескольких шагов. У меня появляется сомнение: это не он! И в ту же самую секунду я решил пройти мимо, предоставляя ему сделать знак, что он узнал меня.
Раз! два! три! –
Он прошел мимо!
Был ли это он, или нет? — спрашивал я себя, направляясь домой. Во всяком случае он явится!
Вернувшись домой, я призвал девушку, чтобы расспросить ее подробнее. Мне хотелось узнать, спрашивал ли меня тот, мимо кого я только что прошел. Но установить этого нельзя было, и я оставался в напряженном ожидании до самого обеда. То мне хотелось, чтобы он тотчас же явился и, таким образом, был положен конец; то мое положение представлялось мне столь знакомым, что я относил его к прошедшему.
Обед прошел; день проходил; и у меня явилась новая точка зрения на положение, которая только ухудшала его. Не подумал ли он, что я не хотел с ним кланяться и испуганно удалился, блуждал теперь по городу в чужой стране и попал в дурное общество; быть может, пришел в отчаяние. Где мне теперь искать его? В полиции?
И я мучился и не знал, почему его участь зависела не от меня. И я чувствовал, будто злая сила поставила меня в это фальшивое положение, чтобы вина лежала на мне.
Наконец, настал вечер. Девушка вошла с визитной карточкой, на которой было напечатано… имя моего племянника!
Когда я снова остался один, я почувствовал некоторое облегчение после пережитого страха, вызванного воображением. Воображение имеет на меня то же влияние, что и действительность. Эти фантазии навязывались мне с такою непреодолимою силой, что для них должна была существовать какая-нибудь основная причина. Быть может, говорил я сам себе, мой сын там, на чужой стороне, был жертвою таких же ощущений, быть может он в нужде и тоскует по мне, быть может «видел» меня на какой-нибудь улице, как я «видел» его, и терзается тою же неизвестностью.
Этим я отрезал путь дальнейшим размышлениям и сдал этот случай в архив вместе с другими событиями; но я не вычеркнул его, как нечто шуточное, напротив того, сохранил его, как ценную память.
Вечер прошел уныло, но спокойно. Я не работал, но ходил по комнате, поглядывая на часы. Наконец, пробило девять. Я со страхом ждал, когда пройдет еще целый час. Он показался мне бесконечно длинным, и я не знал, каким образом его сократить. Не я выбрал одиночество, оно само навязывалось мне, и я ненавидел его, как насилие. Мне необходим был порыв, хотелось слышать музыку великого, величайшего композитора, страдавшего всю жизнь… Я в особенности жаждал Бетховена и стал воскрешать в своих ушах последнюю фразу лунной сонаты, которая была для меня высшим, недоступным для словесной поэзии, выражением человеческой тоски по освобождению.
Стало смеркаться. Окно было открыто. Лишь цветы в зале, на столе, напоминали мне о том, что было лето. В вечернем освещении они стояли тихо, без движения, издавая благоухание.