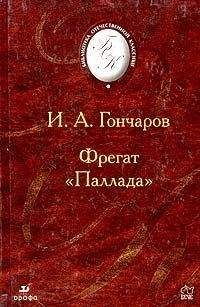Григорий Амелин - Письма о русской поэзии
Почему воспоминание об Ахматовой ограничивается 1921 годом, объясняет Осип Мандельштам, который в «Буре и натиске» (1923) резко развел, противопоставил Пастернака и Ахматову: «Он (Анненский. – Г.А., В.М.) был настоящим предшественником психологической конструкции в русском футуризме, столь блестяще возглавляемой Пастернаком. Анненский до сих пор не дошел до русского читателя и известен лишь по вульгаризации его методов Ахматовой» (II, 293). И вот в 1956 году себя Пастернак перечеркнул, Ахматову реабилитировал, но… психологическая конструкция и здесь подвела. «Он робко в любви ей признался, она ж прогнала его прочь…» Вот, собственно, и все.
О ЗЛЕ И ЖЕЗЛЕ БИОГРАФИЙ
Ольге Кушлиной
Ибо самый сильный соблазн – в природе
мысли, кисти, музыки, камня, слова.
И кружит нам головы мелкий вроде
сдвиг, уловка тайная рыболова.
А когда дурак в слабонервном раже
парашюта режет тугие путы,
то безлюбой власти не нужно даже
ни петли, ни извести, ни цикуты.
Алексей Пурин. «Нижегородские ахи»
Слово «хитрость» в переводе с древнерусского – это «искусство», а «хитрый» – это и есть «художник». Пастернак обмолвился как-то, что уж советскую-то цензуру ему достанет способов обвести вокруг пальца. Г-н Быков в своем шумном жизнеописании[66] тоже оказался в фарсовой роли одураченного цензора. Столько хитроумия и ловкачества, столько трудолюбия и неистовой преданности, любви и поклонения положено на алтарь кумира, а в результате золотая рыбка уплыла, в руках – сети с красным купеческим товаром, но поимка художника по имени Пастернак не состоялась.
Книга Быкова не просто ошеломительно плоха, она вредоносна (и автор – как тот тарантул, который полезен только тем, что, будучи настоен в масле, служит лучшим лекарством от укусов, причиняемых им же). И главное зло как раз в том качестве, что вызвало такое умиление рецензентов. Один из них так суммировал общий восторг московских дураков и подхалимов: «"Пастернак" – жизнеописание двойника… Это не то что образцовая биография – так, как Быков, другим писать нельзя: он разглядывает Пастернака как свое предыдущее воплощение. И это не просто нахальная претензия на расширение жилплощади за счет эксгумированного и предъявленного публике родственника; у Быкова с Пастернаком действительно множество совпадений…»
Об этом чудном двойничестве автора и обслуженного им персонажа мы слегка и поговорим. Быков с отважностью телевизионного астролога и не менее амбициозным краснобайством преподносит биографию, в которой он, автор-прорицатель не просто приводит известные документы и факты, но якобы вникая в творческий процесс Пастернака, овладевает его помыслами, мироощущением, философией. На основе этой душеспасительной подмены нам навязано подобие двух фигур. Жовиально-важный Быков говорит устами Пастернака, строит историософские модели, высказывается о религии, о свойствах власти и страсти. «Ну и что? Так даже веселее и дерзостнее», – подхватывают соратники-борзописцы. Метемпсихозом преодолена унылая скука архивного бытописательства. В самом деле, почему бы не побороться со скукой…
1
Итак, из первоначальной заявки биографа: 1). Пастернак «тает от счастья» (по Быкову – это у них общее) 2). О нем нужно говорить «применяя к анализу его биографии те же методы, что и к анализу его сочинений. В художественном тексте он прежде всего оценивал компоновку и ритм – это два его излюбленных слова с молодости…» (с. 16).
Хорошо, счастье оставим Быкову, хотя половина приведенных цитат – не о том. А вот что касается «анализа сочинений» и «ритма», тут у модного автора – абсолютная глухота.
С такими способностями, да еще при наличии апломба, тщеславия и неколебимой веры в себя, можно хоть в Индиру Ганди, хоть в Черчилля, хоть в Минотавра реинкарнироваться. Для развлечения детей и взрослых можно заявить, что Пастернак «весьма туманно представлял, что такое хорошо и что такое плохо» (с. 228). Или невинно сообщить, что «religio» значит связь (с. 134), слегка подзабыв, что это – совесть. Или даже переврать в пересказе «Воздушные пути». Все это мелочи. Есть прегрешения покрупнее («сарматский бык везет варварскую телегу»!)). А потому оставим в стороне быковские рассуждения о «поведении личности в Истории». Не будем распространяться и о гимнастических упражнениях биографа на брусьях нумерологии, психоанализа, сексопатологии, политики и «мат-лингвистики». Не заикнемся о могучем пищеварении Быкова – как и где из книги глядит серьезнейший Лазарь Флейшман, подрумяненный на маргарине и временами плохо прожеванный, или вдруг выныривает в рапсовой раме запросто присвоенный Мирон Петровский (вся «авторская» глава о «Золотом ключике» аккуратно списана из «Книг нашего детства»). Оставим в стороне превозносимую глянцем эрудицию, с которой предъявляются читателю всяческие литературные ошибки, неосведомленности и прорехи в школярских познаниях золотого медалиста (а сколько их – только Аполлон, бог помарок, может знать).
Поговорим только об отношениях Быкова с пастернаковским словом как таковым (и о далеко заводящих последствиях и травмах этого изначального непонимания). Напиши он для ЖЗЛ «просто» биографию Пастернака, с него и взятки гладки. Нет, он выступил как борец с косной наукой. Поэтому ему пришлось подробно анализировать поэтические тексты, с середины книги уже пестря: «как мы уже показали…», «как было доказано прежде…» и т. д. И вот с этой поспешной «доказанностью», которую Быков кладет уже в основу биографии поэта – полнейший караул. Кривотолки – основной принцип книги.
Мы узнаем, что Пастернак «над строчкой подолгу не бился и, если не удавалась одна строка, с легкостью заменял строфу целиком» (с. 56) (Хулиган Маяковский, надо думать, рифмы ради злобно оклеветал его в стихах о царице Тамаре: «И пусть, озверев от помарок, про это пишет себе Пастернак»). Похоже, что с сохранившимися и опубликованными черновиками Быков ознакомиться не удосужился, ну да бог с ним.
Но чем дальше, тем все отважнее токует глухарь-биограф: Пастернак «мыслил ‹…› не строчками, а долгими строфическими периодами. В зрелости слов стало меньше – но метод не изменился: основной единицей в мире Пастернака было не слово, а строфа» (с. 57). «Работают не слова, а цепочки – метафорические, звуковые, образные; по отдельности все – бессмыслица или неуклюжесть, но вместе – шедевр. ‹…› Отдельное слово в его стихах не существует. Слова несутся потоком, в теснейшей связи (“все в комплоте”), они связаны по звуку, хотя часто противоположны по смыслу и принадлежат к разным стилевым пластам. На читателя обрушивается словопад, в котором ощущение непрерывности речи, ее энергии и напора, щедрости и избытка важнее конечного смыслапредполагаемого сообщения» (с. 141). Вся эта несусветная чушь подкрепляется мнением авторитета: «Фазиль Искандер в блестящем эссе, посвященном проблеме внятности в лирике, уподобил впечатление от ранних стихов Пастернака разговору с очень пьяным, но интересным человеком. Ничего точнее этого уподобления нам встречать не приходилось» (с. 57). Над этим, как сказал бы классик, уже не хочется ни думать, ни зевать.
2
И тут важно не только то, что есть в книге Быкова, но и то, чего в ней нет, например – манифеста «Черный бокал» (1915) и Иннокентия Анненского. Очень сжато: в «Черном бокале» поэт говорит об учебе «новичков», молодых футуристов, у старейшин – символистов и импрессионистов. Освоив инвентарь и отказавшись от символизма, новые поэты пошли дальше – они научились укладке символов, их упаковке и дальнейшим передвижениям переносных смыслов. Если Быков не смог понять, о чем говорит Пастернак в «Черном бокале» (а по сути – во всем своем творчестве), то это – недомыслие, если смог и тем не менее скрыл – наглый подлог. Потому что все академически-научное «открытие» Быкова о великом «символистском» романе «Доктор Живаго» (десятки страниц биографии) случилось из-за неувязки в понимании азов символизма. «Доктор Живаго», действительно, роман тайн, сокрытых знаков, символических столкновений и мистических пересечений судеб. Но символическое – не значит символистское, это не «символистский» текст. Быков пишет: «Пастернаковский роман – проза более символистская, чем все книги Белого, Сологуба и Брюсова вместе взятые» (с. 819). Читать «Черный бокал» нужно внимательнейшим образом, следя за непрерывными подвохами и словесными играми: «В искусстве видим мы своеобразное extemporale, задача коего заключается в том единственно, чтобы оно было исполнено блестяще». Искусство, по Пастернаку, в том, чтобы по доброй воле отважиться покуситься на приготовление истории к завтрашнему дню, приспособить прошлое к встрече с будущим. «Экстемпорале» – это «импровизация», но в гимназии это слово означало «классное письменное упражнение, состоящее в переводе с родного языка на иностранный (прежде всего – латинский или греческий) без предварительной подготовки». Пастернак разбивает, разделяет, разлагает (об этом тоже идет речь в статье – о «разложении действительности») слово «экс-темпо-рале» и получает небывалое «былое время» – то самое прошедшее, которое без предварительной подготовки нужно перевести в будущее и сделать это блестяще. Финал манифеста: «И скажите же теперь: как обойтись без одиноких упаковщиков, без укладчиков со своеобразным душевным складом, все помыслы которых были постоянно направлены на то единственно, как должна сложиться жизнь, чтобы перенесло ее сердце лирика, это вместилище переносного смысла, со знаком черного бокала и с надписью: “Осторожно. Верх”» (IV, 359).