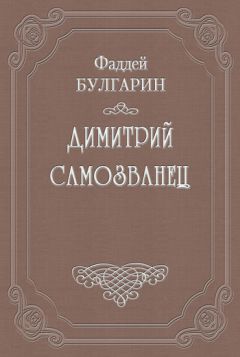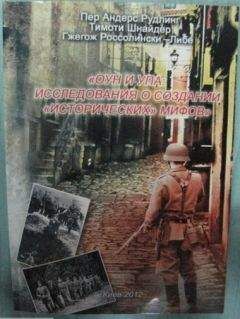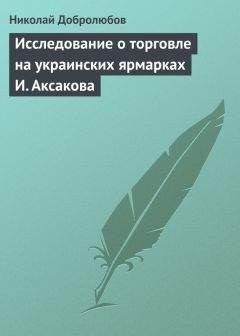Павел Анненков - Деловой роман в нашей литературе. «Тысяча душ», роман А. Писемского
Однако посмотрим, что дает нам, в сущности, роман, построенный на этом основании и притом с такой расточительностью таланта, с таким обилием средств, находившихся в руках художника и знатока дела, которому в искусстве крепко держать бразды всех событий рассказа и направлять их прямо к одной определенной цели, может быть, и нет равного в литературе нашей. Он дает нам в простом и, можно сказать, голом виде историю честолюбца, пробивающего себе дорогу, – именно Калиновича, и этот характер тлетворно действует на всю постройку произведения, как старательно и искусно ни сложена она. Узел происшествий, по-видимому, крепко и ловко затянутый автором, рвется тотчас с приближением героя. Оно и понятно: герой стремится на первый план, где ему заранее указано место, и по необходимости все должно сторониться перед ним – сперва любовница, Настенька, потом жена, Полина (эта, Бог знает, почему), потом влюбленный барон, располагающий местами, потом хитрый, опытный князь, а наконец весь провинциальный город и целая область. Какая «интрига», какое содержание, как бы богато оно ни было, выдержат напор человека, которому определено стоять на высоком пьедестале coute qui coute[1], потому что без этого все пропало – мысль произведения и оно само. Как триумфатор расхаживает герой вдоль и поперек всей завязки романа, которую автор старается всеми силами спасти из-под ног этого нечистого духа, им же самим вызванного: ходом романа уже владеет не автор, не внутренняя необходимость жизни, а этот человек. Автор у него в руках и принужден употреблять в действие всю силу ума и таланта, чтобы приличным образом, с наружным видом самостоятельности следовать за ним по пятам. Это тираническое обращение с жизнью, со всеми окружающими, герой Калинович приобрел совсем не тогда, когда, продав себя богатой и влиятельной невесте, купил право неприкосновенности для себя и своеволия над другими, а гораздо ранее. Он приобрел его еще до начала самого романа, именно тогда, когда автор решился сделать в фантазии своей уступку ложному блеску и поставить Калиновича с идеей, им выражаемой, не в ряду всей другой жизни как одну из ее подробностей, а в центре жизни как рычаг и начало ее. Калинович скоро высвободился от повиновения обыкновенным ее законам.
Отличительное качество романа, где гражданское дело составляет главную пружину события, есть некоторого рода сухость. Он способен возбуждать самые разнородные ощущения, кроме одного – чувства поэзии. Негодование, смех, благородные стремления к высшей нравственной идее, сострадание, ужас, – все эти и множество других психических ощущений легко пробуждаются в человеке деловым романом, но до поэзии и поэтического обаяния достигает он редко. Этого также вполне нельзя сказать о произведении нашего автора, но и у него поэзия обнаруживается только по закраинам романа, в каком-нибудь Годневе, в какой-нибудь Пелагее Евграфовне, заявляющей свою беспредельную благодарность к семейству Годневых особенным манером, – в мрачном капитане, страдающем за других молчаливо, но выразительно, – наконец, в пьяном Экзархатове и проч.; но она бледнеет и пропадает в центре, на первом плане, где беспредельно господствует в образе Калиновича одно гражданское дело. Краски жизни, игра ее и живописные мотивы бегут от него, как легко понять, в дальние углы романа и, притаившись там, робко горят в чаше переплетающихся событий, как светящиеся червячки в зелени. Перед глазами читателя прямо расстилается одна бесплодная, сухая степь, где, поднимая едкую пыль, свирепо сталкиваются животные страсти человека – корысть, злоба, эгоистический расчет: таково неизбежное условие всякого романа, занимающегося судьбой делового человека, а не жизненной историей, которую он должен болезненно возмутить или расстроить окончательно. «Что ж за беда? – скажут нам. – Лишь бы вышла поучительная картина, лишь бы открыл нам автор глаза на болезнь общества и способствовал к отысканию лекарства от недуга! Нет, или очень мало поэзии в главных событиях – ну, и Бог с ней! Она еще, пожалуй, перепортила бы все дело, лишив его необходимой яркости, разделив внимание читателя и ослабив впечатление». Расчет основательный, но от него уже недалеко и до заключения, что чем грубее средства, тем сильней и успешней они действуют…
На деле, однако ж, то есть в сфере свободного создания, существуют другого рода соображения. Приведем, например, одну чрезвычайно замечательную черту, которая почти неизменно повторяется всеми лучшими, так называемыми социальными романами, когда они построены на частном интересе и не подчинились рабски философским или политическим теориям. Через всю, часто весьма сложную постройку их проходит одно существо (мужчина или женщина – все равно), исполненное достоинства и обладающее замечательною силой нравственного влияния. Роль подобного благородного существа постоянно одна и та же: оно везде становится посреди столкновений двух различных миров, представляемых романом, – мира отвлеченных требований общества и мира действительных потребностей человека, умеряя присутствием своим энергию их ошибок, обезоруживая победителя, утешая и подкрепляя побежденных. Нам пришлось бы перечислить множество героев и героинь лучших романов Диккенса, Жорж Санда и других, если бы мы хотели подтвердить примерами справедливость нашего замечания. Все эти избранные существа возникали в фантазии авторов из потребности указать чувству читателя искупительную жертву несправедливости и ободрить его при торжестве неразумных, темных или порочных начал.
Что ж выходит далее? Далее выходит, что только посредством этих избранных существ, а не посредством грубой расправы и кровавого мщения оканчивается суд над людьми. Дикие побуждения, или мрачные силы невежества и притеснения падают перед ними, с высоты их величия, в прах, разумеется, не формально, не физически, а пораженные в своем значении. Пусть на конце романа все элементы, враждебно действовавшие на истину и разумность, стоят еще в полном блеске и в полной своей целости, не тронутые и не ослабленные происходившей борьбой, пусть даже являются они победителями и еще грозят будущему развитию человека, но одно присутствие этих избранных, несколько мгновений их жизни, составляют уже отрицание и осуждение противоположных им начал. Скажут: «Этого мало», – но ведь задача романа не в том, чтобы произносить или свершать судебные приговоры, а в том, чтобы показать читателю, куда должны обращаться его симпатии. И когда искупительная жертва подобного рода, сообщающая нравственный смысл всему грубому ходу борьбы и всем ее орудиям, сама падает в середине битвы, защищая правую сторону и дело своего сердца, какие бесконечные симпатии читателя сопровождают ее и какую длинную, блестящую полосу отрадных воспоминаний оставляет она за собой! Так обыкновенно строятся общественные романы, которые берут первый материал из среды народной жизни и за которыми не могут следовать повествования, начинающие не с живого материала, а прямо с орудий, обделывающих или искажающих его. На долю их выпадает тяжелая, томительная, почти аскетическая работа – собирать вокруг себя безответные страдания и плакать над ними. Само собой разумеется, что и автор наш, будучи опытным художником, не мог обойтись без поэтического образа, смягчающего темные краски действительности, и повторил его в лице Настеньки, – любящей и страстной Настеньки; но ее постигла горькая судьба. Так как все, что попадает в сферу Калиновича, принимает особенный, угловатый и непривлекательный характер, то и она подверглась той же участи. Избранная на великое призвание – стать отрадой для нравственного чувства читателя, она оказывается ниже свой задачи, весьма легко и скоро оттирается деловыми интересами на задний план, потом свыкается со своим положением и, наконец, утрачивает совсем первоначальный свой характер, перерождаясь почти в искательницу приключений, правда, еще живущую воспоминаниями, но уже без страсти, без веры и убеждений. Скажут: «Так часто бывает на свете». Правда, но бывает и иначе, а потом – что это за открытие!.. Мало ли что часто бывает на свете!
Может статься однако ж, что само нравственное положение общества нашего не представляет всех тех данных, из которых обыкновенно возникают в романах трагические положения и рождается настоящий гражданский интерес их содержания. Частная жизнь наша, с идеями и стремлениями, живущими в ней, может статься, еще очень тоща и хила в сравнении с могучими деятелями, окружающими ее; может статься, она не представляет достаточной упругости для того, чтоб выдержать напор какого-либо влияния извне?
Может быть, она слишком скоро отступает перед всяким заявлением права, как бы произвольно, незаконно и даже малосильно ни было оно? Часто ли обнаруживалась в ней та доля нравственного влияния, которая при случае может одна остановить неправильное развитие силы, переступившей за черту закона, за положения и за понятия о порядке и справедливости? Много ли знаем мы примеров, где бы она собственными моральными способами, благородной, честной и законной борьбой переработала человека, не дожидаясь спасительной руки извне, которой одной предоставлена у нас тяжелая работа делать и разделывать людей, как говорится, безучастия общественного мнения? Можно даже спросить: признает ли в себе частная наша жизнь твердые, моральные основы, которые бы могла предъявить, за которые могла предъявить, за которые могла бы ходатайствовать и которыми открыто могла бы воодушевляться? До спора может дойти всякий; до осуждения чего-либо также, но до борьбы со злоупотреблениями и испорченностью еще далека дорога: тут надобно прежде всего выработать себе самому разумную жизнь, серьезное понимание ее и нравственные убеждения.