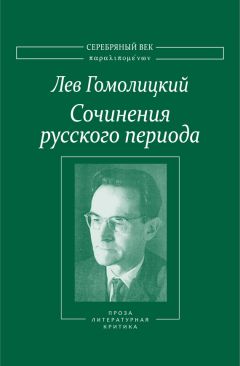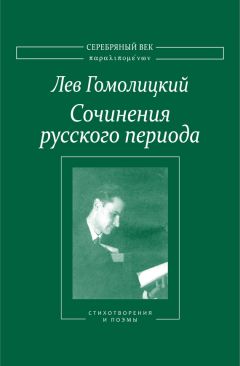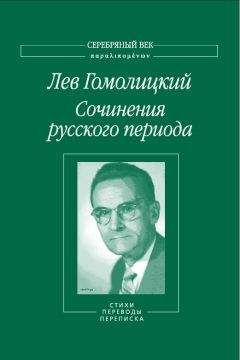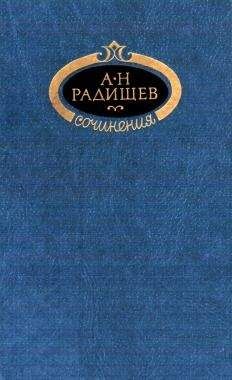Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3
Сущность же поэзии он определял как «песнь времени», понимая под временем силу, «изнутри развивающую мир» (силу жизни). «Писание о чистом времени своем и мира, - записывал он в дневнике, - а у пантеистических натур об одном только чистом времени человеко-божеском, есть, по-моему, стихия современной лирики»[719]. Сам он пантеистической натурой не был, и стихи его были о чистом времени своем и мира. По крайней мере, те стихи, что вошли в первую книгу «Флаги».
Для «Флагов» характерно обилие образов, отражений мира, ярких, цветных и пестрых, как праздничные флаги. Каждое стихотворение - такая увешанная флагами улица. Если снять один-два флага или прибавить новых десять, пестрота не уменьшится и не усилится. На флагах были расписаны старые символы, аллегорические и бытовые картинки. Так средневековый иконописец наивно смешивал библейские темы с мелочами окружавшего его быта. В теме Поплавского была тревога - музыки. Беспредметная, необъяснимая трагичность. Неясное предупреждение вещего сна.
В «снежный час» пестроту приглушили белые хлопья. После шума наступила глухая зимняя тишина, в которой еще сильнее зазвучала трагическая симфония общей музыки. «Метель лютейшая из лютен»[720] - эти слова Пастернака пригодились бы для эпиграфа к «Снежному часу».
Тех, кто привык к Поплавскому его первой книги - «Флагов», эта неожиданная зимняя приглушенность и прозрачная бесцветность разочаровали. От тайных сокровищ, оставшихся после него, ожидали если не откровений, то хотя бы в какой-то мере новизны. Словом, новых «дерзаний». Вместо этого нашли: неточность, вялость языка, как бы намеренную пресловутую «пушкинскую», почти хрестоматийную простоту –
Птицы улетели. Холод недвижим.
Мы недолго пели и уже молчим.
Значит, так и надо, молодость, смирись.
Затепли лампаду, думай и молись[721].
И в самом деле, здесь произошло быстрое разложение и отпадение «красивости». Чрезмерность образов, избыток декоративности «Флагов» отомстили зa себя во второй книге. Не ослепленный своей первой «бравурной» удачей, Поплавский-лирик с чисто аскетической суровостью, не боясь сломить себя, сорвать голос, принялся за дело «очищения» поэзии, вытравливания из нее всякой подозрительной эффектности.
Смелый эксперимент этот (может быть, более смелый, чем новаторства недавнего времени) окончился для Поплавского крушением и гибелью. Но поражение это было из тех, что почетнее победы. Иначе как подвигом нельзя назвать неравную борьбу поэта с застывшими поэтическими формами. К борьбе этой он подошел как подходил к жизни, к Богу - с голыми руками. Он не искал себе союзников ни в эпической теме, которая должна была бы сломить лирическую традицию, ни в задачах, лежащих уже вне искусства, за которые можно было бы ухватиться, как за рычаг, чтобы сдвинуть с оси землю. Иначе он и не мог, потому что по природе своей был чистейший лирик. Эпос для него был органически неприемлем, единственной же его темой в поэзии был лирический метод.
Отдав дань поэзии образа о музыке, он решил освободиться от его литературности и впал в другую литературность - хрестоматическую. Лишая свою Музу украшений, красоты, голоса, он в силу прирожденной трагичности своей стал на путь не простоты, но гибели.
В «Снежном часе» это еще не было достаточно ясно. Но вот появился новый посмертный сборник под зловещим названием «В венке из воска». Сборник этот составился из стихов, выпавших из разных законченных циклов. Но чем заведомо несовершеннее эти стихи, тем яснее обнаруживается на них процесс распада. Тут мы можем просмотреть всё не доведенное до конца, не завершенное на пути борьбы поэта с «литературой». И прежде всего бросается в глаза ее порочная благополучность. Пользуясь терминологией дневника Поплавского, это книга «возвращения в музыку», примирения с гибелью, умирания - т.е. «воскресения» и да, конечно, - «в венке из воска».
Если не считать цикла «Дополнение к Флагам», тут собраны стихи, в какой-то степени приближающиеся к той «словесности», которая и давала пищу сомнениям Поплавского. Под их литературным приемом кроется та же страстная, мужественная мысль, давшая начало и дневниковым записям. Но подлинное там, тут прибрано, хотя и намеренно бедно, может быть, но прибрано - и вот...: «ты мне опять не понравился (как писал Поплавский в дневнике, обращаясь к самому себе), и боль повторилась, зачеркнуто всё»[722]. Фактически ведь «В венке из воска» и составлено из зачеркнутого.
Конечно, внешне смерть Поплавского не имела связи с его творческими трагическими переживаниями. Но внутренне связь эта была. Достаточно прочесть последние страницы его дневника: «кто знает, какую храбрость одинокую надо еще иметь, чтобы еще писать...»[723]. «Дописываю... дочитываю, прибираю, убираю всё... Чего я жду? Смерти, революции, улицы...»[724].
Нет, ни революции, ни улицы он не ждал; в вечном своем сомнамбулическом обращении в себя, он всюду - и в революции, и на улице остался бы одиноким, со своею трагедией. Оставалось третье - «смерти».
Так мужественная попытка спасения поэзии из опрощения стала разложением и смертью. Реальной, непоэтизированной смертью, после которой замолкают навек. Взбунтовавшийся, нашедший в себе достаточно одаренности и силы, чтобы бороться, не только не создал ничего нового, но сам «пал в неравном бою».
Выводы, которые можно отсюда сделать, тем страшнее, что Поплавский не единственная жертва.
МОИХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Русская литература насчитывает несколько поэтов, вышедших из еврейской среды. Но никто из них, если не считать Фруга, поэта совсем слабого, не показал открыто нам своего национального лица. Первым сделал это Довид Кнут, один из самых ранних русских зарубежных поэтов младших поколений.
Первый сборник его «Моих Тысячелетий» начинался своего рода поэтической декларацией, где всё с начала до конца было построено на теме исторических судеб Израиля. Тут были и «грохоты Синая», и «тяжелый глаз Владыки Адоная», и «скорбь вавилонских рек», и «дым и вонь отцовской бакалейки - айва, халва, чеснок и папушой, - где я стерег от пальцев молдаван заплесневелые рогали и тарань». Об этом тяжком грузе «любови и тоски», «блаженном грузе своих тысячелетий» поэт и обещал поведать свое «слово»[725].
Всё это было не чем иным, как тою же исторической темой, только с той разницей, что история Кнута начиналась от подножия Синая, в России же воздухом ее был
Особенный еврейско-русский воздух...
Блажен, кто им когда-либо дышал[726].
Надо сказать, что положение Кнута было куда выгоднее. Не ложно-классическая Клио, но Глаголющий из грохотов Синая был его Вдохновителем. Тема Кнута должна была объединить в одно темы Ладинского и Смоленского - и Поплавского: стилизованную историю с тяжестью тысячелетий, самозащиту гневом со встречею с Богом. И всё это без всякой программы, в силу самой вековой трагической и религиозной судьбы Израиля.
С судьбами Рoссии судьба эта соприкасается и еще в одной точке, может быть, объясняющей появление Кнута именно в эмиграции. Я имею в виду великое рассеяние по лицу земному еврейского народа, аналогичное которому переживаем сейчас мы, в рассеянии сущие.
Всё это, намеченное в первой книге «Моих тысячелетий», получило у Кнута свое полное развитие во «Второй книге стихов».
Наряду со стихотворениями, где поэт отдает дань темам иносказательно библейским и темам еврейского рассеяния (несколько условно патетическим, декламационным, напр.: «Нужны были годы, огромные древние годы...»[727]), тут мы найдем и религиозные мотивы, отмеченные духом галахи:
Благодарю Тебя за всё: за хлеб,
За пыль и жар моей дороги скудной...
За эту плоть, Тобою обреченную
Вину и хлебу, букве и жене.
За сердце, древним сном отягощенное,
За жизнь и смерть, дарованные мне.
За то, что в детстве слышал в небе трубы я
И видел перст, суровый и большой.
За то, что тело бедное и грубое
Ты посолил веселою душой[728].
найдем и утверждение бытия, за которым чувствуется страх личного уничтожения; но найдем и обнаженные «метафизико-человеческие» темы, где одинокий человек поставлен перед лицом великих катастроф и таинственной внешней пустоты.
На всей этой поэзии лежал отпечаток отвлеченности. Тысячелетняя перспектива, первоначальные вещи, предельные слова в отчаянии и «досмысленной радости бытия»[729] - всё это было необходимо Кнуту как воздух. И в какой-то переломный момент своего творческого роста поэт должен был понять «книжность» своего вдохновения. Поняв же, он пожелал освободиться от «словесности». Между тем на практике оказалось, что именно эта-то опасная, роковая «красивость» и была главным материалом его творчества.