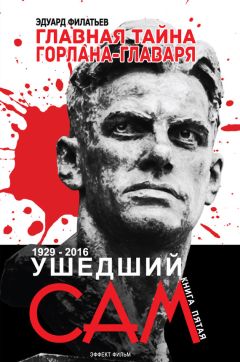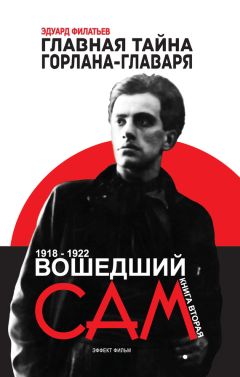Юрий Карабчиевский - Воскресение Маяковского
«После одеколона и рисовой пудры Бальмонта, после нежных кипарисового дерева (?) вздохов Ал. Блока — вдруг
Оязычи меня щедро, ляпач!..»
Вот этот «ляпач» и решил все дело. Он и оязычил и надоумил.
3Представим себе молодых энергичных людей, не обладающих никакими особыми талантами и мечтающих о всемирной славе.
Этой славы, по их наблюдениям, с минимальной затратой сил и времени можно достичь в искусстве. Осмотревшись, они убеждаются, что искусство неохватно велико и пугающе разносторонне. С их способностями, каждый из них это чувствует, можно выскочить разве что маленьким прыщиком на его бесконечной поверхности. Это, конечно, никуда не годится, надо что-то делать, где-то искать. И они находят. Идея приплывает к ним из Италии от благословенного Филиппо Томазо Маринетти. В его футуристическом манифесте содержалось буквально все, что требовалось, и даже кое-что сверх. Ни один манифест русских футуристов не смог провозгласить ничего такого, чего бы в принципе не было у Маринетти. И самоценность средств выражения, и конструктивность восприятия мира, и преклонение перед техникой, и преклонение перед силой, и даже оптимизм как основа мироощущения. Но главное, что подсказал Маринетти, был единственный способ завладеть миром: надо вывернуть общественный вкус наизнанку, так, чтобы талант оказался бездарностью, а бездарность — талантом. Эта формула обещала великие блага, и она, никогда не произнесенная в чистом и обнаженном виде, явилась основополагающим руководством ко всей деятельности футуристов. Все дальнейшее естественно и неотвратимо. Эпатаж общества, дискредитация искусства (старого, то есть, иными словами, всего), а также всех духовных ценностей, на которых это искусство строилось. Сначала все они попробовали в живописи, но там задача оказалась сложнее. Там пришлось работать среди мастеров. Пикассо разрушал, преодолевая, а не обходя искусство с левого фланга. Стихотворчество же — дело узконациональное и гораздо менее четко очерченное с точки зрения профессионализма.
Итак, поход на литературу…
Позитивный багаж был минимален, хватало двух десятков стихотворений на каждого, трех-четырех пунктов программы. Зато для оплевываний и проклятий использовалось все свободное место и все вообразимые средства.
«Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми. Всем этим Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. — нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным.
С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество».
Очень скоро, буквально за год-полтора, к футуристам пришла искомая слава. Стечение обстоятельств было идеальное. Предвоенные годы, кипение-бурление, вся Россия разделилась на два лагеря, и хотя сила формально на стороне реакции, демократия — в подавляющем большинстве. Все, что заявляло себя как бунт, воспринималось с симпатией и любопытством, всякий скандал разряжал атмосферу и освежал застоявшийся воздух. На все выступления футуристов публики набивалось сверх всякой меры, и это несмотря на необычайно высокие цены, также возбуждавшие пересуды, то есть тоже способствовавшие успеху. Никаких скандалов, по сути, и не было, любые эпатажные заявления встречались весело и доброжелательно. Не только символические плевки Маяковского, но и вполне реальные опивки чая, выплеснутые Крученыхом в первые ряды, не вызывали никакой обиды. Ширилась слава, росли сборы.
«Деньги? — сказал Маяковский Лившицу. — Деньги есть, мы едем в мягком вагоне, и вообще беспечальная жизнь отныне гарантирована всем футуристам».
Один только перечень эпатажных нарядов, в которых он появлялся на выступлениях, говорит о том, что деньги имелись: желтая кофта, полосатый пиджак, красный смокинг, турецкая кофта, пиджак апельсинового цвета — это все в течение одного вечера. (Впоследствии, вспоминая это славное время, он будет рассказывать о том, как бедствовал, жил на бульварах и ел у знакомых.)
После одного из таких вечеров, на афише которого было написано «доители изнуренных жаб», газеты назвали группу футуристов «доителями одураченной публики». Это было верно только наполовину. Они-то, конечно, были доителями, но публика не была одураченной: она вообще таковой не бывает, а всегда получает то, чего ждет.
Игорь Северянин, «эгофутурист», познакомившись поближе с этими «кубо», писал с ужасом и возмущением:
Позор стране, поднявшей шумы
Вкруг шарлатанов и шутов!
И с удивительной прозорливостью добавлял:
Они — возможники событий,
Где символом всех прав — кастет…
Никто всерьез не разделил его опасений. Пресса ругалась, смеялась, издевалась — но и хвалила, выражала надежду. И это понятно. У футуристов в совокупности было все, что надо: и трезвый расчет, и деловая энергия, и наглость, и твердая беспринципность — но и теневой, осеняющий гений Хлебников, и реальный, вполне живой Маяковский…
Втянули? Примазались? Казалось бы, очевидно. Не будь среди них тогда Маяковского, кто бы стал о них говорить сейчас, кто бы вспомнил их имена? Все так, и все же совершенно иначе. Понятно, что Маяковский был необходим футуристам (всем обобщенно — «Гилеям», Лефам, Рефам…) как единственный среди них несомненный талант и как единственный профессионал. И у них было нечто несомненно реальное, в любой момент ощутимое! А поскольку они были не разлей вода (так всегда объявлялось почтеннейшей публике), то как бы и все они, несуществующие, становились реальностью.
Но и они ему были нужны.
В их самом первом совместном манифесте, с его знаменитым Пароходом Современности, по меньшей мере два декларативных пункта принадлежат лично Самому Маяковскому: о «парфюмерном блуде Бальмонта и мужественной душе сегодняшнего дня» и еще — «стоять на глыбе слова „мы“ среди моря свиста и негодования».
Не надо думать, что это случайные выкрики, имеющие чисто скандальный смысл. Все тогда продумывалось очень тщательно.
«Мужественная» душа Маяковского могла ощущать себя таковой, только находясь в определенном отношении и к чужим (Бальмонт), и к своим («мы»). Враги, чужие, блуд, чириканье — это уже как бы само собой, но трудно не увидеть закономерности и в непременном наличии у главаря-горлопана старшего друга-наставника. Кто же он? Сначала — женоподобный Бурлюк, «с лицом и повадками гермафродита» (Б. Лившиц). Потом—Брики, он и она, тоже в среднем составляющие нечто среднее, и даже фамилии — как два варианта одной…
Но, конечно, этим значение «мы» не исчерпывалось. Маяковский должен был в каждый момент ощущать себя частью направленной силы, и двое-трое боевых крикунов, готовых, как казалось, глотку порвать за друга создавали ощущение такой принадлежности. Впоследствии принадлежность к вполне реальной и гораздо более мощной силе не отменила этого положения. Просто к цепкой защите родных имен прибавились жестокие драки с «чужими своими» за право соответствовать и выражать.
И была еще причина, быть может, главная, по которой Маяковский и футуристы нуждались друг в друге и друг к другу тянулись. Это — совпадение сферы действий. Уникальный и бесспорный талант Маяковского располагался именно в той самой области, где действовала бездарность всех остальных: в области оболочек, средств воздействия, механических разъятий и сочленений, декларативных утверждений и самохарактеристик — то есть в том рациональном, упрощенном мире, где жила его пустующая душа. И как ни отличался он от остальных, как ни велика была между ними дистанция, это все же дистанция, а не пропасть. Его стихи выделяются с первого взгляда, но они немыслимы в другом сборнике, как он сам немыслим в другом сборище.
Он был не просто сам по себе, он был коронованный король графоманов и так же нуждался в их шумной свите, как они — в его несравненном величии.
4В ранней юности Маяковский был причастен к подполью. В тридцать лет Каменский летал на аэроплане. В предоктябрьские дни тридцатидвухлетний Хлебников посылал Александру Федоровичу Керенскому, которого он еще совсем недавно ввел в число Председателей Земного Шара, издевательские письма и телеграммы, называя его Александрой Федоровной. (Это гениальное изобретение впоследствии позаимствовал у него Маяковский для своей Октябрьской поэмы.)
Этим списком, пожалуй, исчерпывается летопись смелых поступков будетлян-футуристов. Никто из них ни разу не вступился за слабого, никто никогда не воспротивился силе, если иметь в виду не номинальную силу, а реальную, главенствующую во времени. Начало первой мировой войны — это взлет патриотического самосознания и возможность заработать на лубках и открытках.