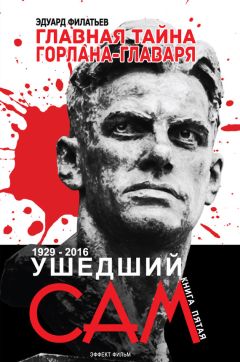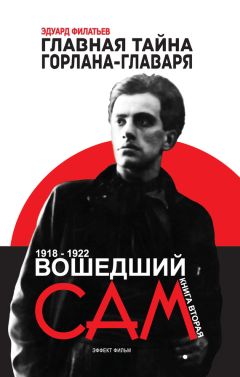Юрий Карабчиевский - Воскресение Маяковского

Обзор книги Юрий Карабчиевский - Воскресение Маяковского
Юрий Карабчиевский
ВОСКРЕСЕНИЕ МАЯКОВСКОГО
— Маяковский вот…
Поищем ярче — лица —
недостаточно поэт красив.—
Крикну я вот с этой, с нынешней страницы:
Не листай страницы!
Воскреси!
ВСТУПЛЕНИЕ
Маяковского сегодня лучше не трогать. Потому что все про него понятно, потому что ничего про него не понятно.
Что ни скажешь о Маяковском, как ни оценишь: возвеличишь, низвергнешь, поместишь в середину — ощущение, что ломишься в открытую дверь, а вломившись, хватаешь руками воздух. Бесконечно размноженный, он всюду с нами, тот или иной — у всех на слуху. Но любая попытка сказать и назвать— кончается крахом, потому что всегда остается чувство, что упущено главное.
Маяковского лучше не трогать, так спокойней, так безопасней. Но тронув, вспомнив, заговорив — пусть случайно, в разговоре о другом, мимоходом, — чувствуешь каждый раз необходимость хоть какую-то мысль довести до точки, хоть какому-то суждению об этом поэте придать полноту и определенность, достаточную если не для общего пользования, то для собственного душевного равновесия.
Это чувство и вынуждает рискнуть.
Но уж если решиться говорить о Маяковском, то только будучи абсолютно уверенным в своей в данный момент беспристрастности. Главное — это не быть предвзятым. Не искать подтверждений — вот что главное. Не иметь никаких предварительных мнений, никакого счета не предъявлять, а открыть и читать стих за стихом, как читают неизвестного ранее поэта, выстраивая тот мир и тот образ автора, какие выстроятся сами собой.
Так бы требовалось, но так невозможно, к чему притворяться. Маяковский — это не просто литературный факт, это часть нашей повседневной жизни, нашей, как принято говорить, биографии. И поскольку мы родились не сегодня, то могли бы сказать его же словами, что стихи его изучали — не по Маяковскому. Мы изучали их по воспитательнице в детском саду, по учительнице в классе, по вожатой в лагере. Мы изучали их по голосу актера и диктора, по заголовку газетной статьи, по транспаранту в цехе родного завода и по плакату в паспортном отделе милиции. И заметим, что никогда, ни в какие годы наше отношение к этим источникам не вступало в противоречие со смыслом стихов. Не было необходимости умолчания, не требовалось круто оборвать цитату, чтоб ограничить ее содержание тем, что полезно вожатой или милиции.
В газетах цитируют ведь и Блока. «О доблестях, о подвигах, о славе». — Стандартный заголовок. Тоже надо было заработать, дается не всякому. И однако именно это — не Блок. Потому что соответствующая строчка Блока, хоть и состоит из тех же слов, означает иное и звучит иначе. Потому что она — часть иного целого, и уже следующая строка, необходимо и естественно ее продолжающая, — губительна для газетного заголовка.
С Маяковским такого не происходит. Он весь — предшествие и продолжение не столько даже собственных строк, сколько цитат, из них извлекаемых. Можем ли мы об этом забыть, приступая к чтению?
Мы вечно помним Пушкину те два или три стиха да еще три-четыре странички интимной прозы, где он, как нам кажется, поддался не вполне благородным мотивам. Мы с легкостью проклинаем и с трудом защищаем Некрасова за единственный его подобострастный стишок, сочиненный в минуту страха и слабости. Мы даже для Мандельштама держим за пазухой (мало ли, авось пригодится) тот пяток неумело нацарапанных отрывков, который под пыткой вырвала у него эпоха. И вот мы начинаем разговор о поэте, у которого на десяток томов такого приходится едва ли один как будто не этого…
Тут, конечно, с готовностью возникает вопрос об искренности, измене и верности. Маяковский, допустим, был верен себе в служении злу, а Пушкин, всегда служивший добру, однажды ему изменил. Хороший повод для разговора о смысле этих важнейших слов. Но об этом, быть может, позже, сейчас интересно другое. То, что мы, совершенно непреднамеренно, поставили рядом два этих имени и тем уже одним в значительной мере предварили оценку. Противопоставили, но это не так уж и важно. Ведь нельзя же противопоставить Пушкину — Демьяна Бедного. «После смерти нам стоять почти что рядом…» Неужели — пророчество?
Сформулируем самую беспристрастную версию, наиболее популярный портрет героя.
Молодой блестящий поэт, человек большого таланта, новатор и реформатор стиха, бунтарь и романтик, увидел в Революции сначала также романтику, затем — объективную необходимость и самоотверженно бросился к ней в услужение. Постепенно он втягивается в ее круговерть, становится глашатаем насилия и демагогии и служит уже не Революции, а власти. Здесь он растрачивает всю свою энергию и весь свой талант, попадает в тиски цензуры и бюрократии, видит несостоятельность тех идеалов, которым служил, мучается совестью, мучается раскаянием, обо всем сожалеет и в полном отчаянии кончает жизнь самоубийством. Еще одна жертва, скажем, сталинских лет…
У этой картинки странное свойство. В общем она как будто бесспорна, однако в отдельности каждый пункт, каждая ее деталь под вопросом. Вопрос не обязательно выражает сомнение, он может лишь требовать разъяснений, но так или иначе все утверждения колеблются и слегка расплываются, и каждый отдельный вопрос еще разветвляется и порождает другие, побочные, любой из которых может, как знать, обернуться главным. Нет смысла пытаться ответить на них по порядку. Почитаем, подумаем, поговорим — авось что-то и прояснится.
Глава первая
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Первое непосредственное впечатление от чтения раннего Маяковского — безусловная исключительная одаренность автора. Нет, в этом нас не обманули. Перед нами совершенно новый поэт, даже теперь, через семьдесят лет, ничего или почти ничего не утративший от своей новизны и оригинальности, неустанно изобретательный в обращении с предметом и словом. Не только все актуальные средства, но и отходы поэтического производства, все то, что отброшено профессиональной поэзией в область любительства и графоманства, используется им с неожиданной смелостью и становится полноправным, необходимым качеством сильного, насыщенного стиха. Еще даже не ясно, о чем и зачем, но сразу ощутима напряженность речи, звуковая, ритмическая, эмоциональная и все строки пронизывающая энергия.
Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду, бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие потом и базаром.
Странный, принудительный ритм, как бы выкручивающий руки фразе, усиливает это чувство напряженности, создает почти физическое ощущение муки, едва ли не пытки. Душевная мука — первый личный мотив, на который мы отзываемся в стихах Маяковского и в подлинность которого не можем не верить. Между тем при сегодняшнем внимательном чтении уже с первых стихов выявляется многое, что мешает почувствовать и оценить эту подлинность.
Прежде всего — вполне сознательная, провозглашенная выраженность приема, необходимость читательского его использования и многократного возобновления. Первое чтение—почти всегда черновое. Требуется вначале отыскать рифму, оценить, хотя бы бегло, степень ее смысловой необходимости, соответственно расставить акценты в строке, вогнав вылезающие куски, а потом уже, все это помня, читать набело. Чтение Маяковского — это декламация, где всякое непосредственное впечатление перебивается памятью о репетициях. Оттого любой стих Маяковского, даже самый страстный и темпераментный, остается искусным пересказом чувства, но не его прямым выражением.
Так, одновременно с первым восхищением, возникает и наше первое сомнение: ощущение постоянной, необходимой дистанции между тем, что сказано, и тем, что на самом деле. Эта двойственность— первая дурная двойственность, сопровождающая чтение Маяковского. Есть, однако, и вторая, и третья. Среди самых ранних стихов существует один, достаточно часто цитируемый, где, быть может, всего пронзительней звучит душевная мука и жалоба:
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»
Это очень талантливые стихи. Здесь один из тех, скажем сразу, не столь уж частых моментов, когда хотелось бы соединиться с автором, пережить его боль как свою.