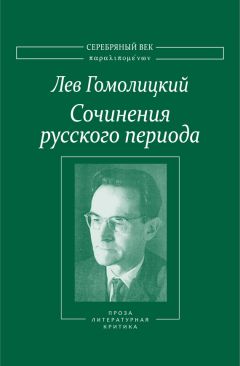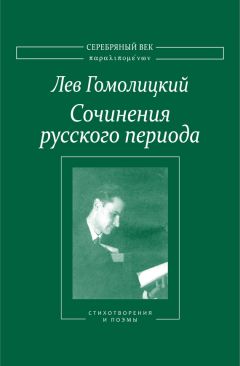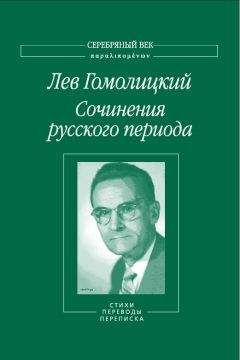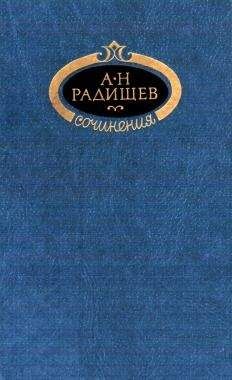Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3
Не свободны от архаизмов и наши зарубежные поэты, пользующиеся ими для стилизации (как, напр., Ладинский: «...или в классической манере: Минервы ветвь, перунов глас, И лавр, и перси юной дщери - Героям, посетившим нас»)[554] или бессознательно продолжающие ту или иную традицию (вес пути, в конце концов, ведут в Рим) - напр., Д. Кнут: «Плывут первоцветущие сады, Предслышится мелодия глухая...»[555] и, наконец, вполне сознательно, как покойный Николай Гронский: –
А стих елико прорицает
Божественную стройность чувств[556].
Есть, правда, в нашей молодой зарубежной поэзии такое течение, стремящееся к предельному обеднению формы, которое прежде всего выражается в боязни архаизмов. Но тут получается заколдованный круг, потому что для русского стиха с архаизмом связано богатство не только формы, но и содержания - слишком сложна и глубока его традиция.
«Разрез» психологический
Но и помимо сложной литературной традиции (очень, как мы видим, крепкой) есть сверхсознательная покоряющая сила в языке, которым писаны (пойдем дальше XX, XIX и XVIII веков), скажем, трактаты старчика Григория Сковороды, каким писал протопоп Аввакум, каким переведены томы Добротолюбия... Кто раз ощутил на себе его силу, не может не познать страсти повторения, прислушивания к словам очищающего «ангельского» языка «внушителей златых стихов» (Кюхельбекер), словам вечным, поскольку вечна лествица духа, и лишь для нас, о вечном забывших или плохо помнящих, превратившимся в «архаизмы».
Потому и поэзия (– память о вечном) всегда искала в них своего обновления и оправдания.
Тут, возвращаясь к вопросам, заданным мне критиком, мне хотелось бы в свою очередь задать ему всего лишь один, побочный вопрос:
почему это «отвратительно»?
Может быть, против такого «дикого» архаического стиля, над которым потешался еще Сумароков, наш отец мифа простоты в искусстве, но почему архаизмы, восходящие к языку Псалтыри, языку Державина, Пушкина, Баратынского и всех русских больших поэтов старого и нового времени, «по-видимому, представляются отвратительными»?! Только на одно это хотел бы я услышать ответ.
Меч, 1938, № 19, 15 мая, стр.6-7.
Наедине
Только из подзаголовка мы узнаем, что эта книга стихотворений «вторая». Неизменная последняя страница, с перечислением книг «того же автора», скромно отсутствует. Между тем я хорошо помню, какое впечатление произвел первый сборник Смоленского «Закат», появившийся еще в то время, когда само существование зарубежной молодой литературы было под сомнением. Было в «Закате» много незрелого, недовоплощенного, неясного; «мрачность» темы Смоленского казалась чужой и случайной; но все поняли: книга молодого поэта - явление незаурядное, с которым нельзя не считаться.
С тех пор прошло, наверно, лет пять. Срок достаточный для того, чтобы таланту определиться, а автору найти свое слово. За Смоленским эти годы мы не переставали следить по стихотворениям, скупо появлявшимся в журналах и газетах; но поэзия его по своей природе циклична, дробление для нее невыгодно и опасно. Лишь теперь, когда лучшее написанное за последнее время поэтом собрано в одну книгу, стало ясно, насколько строга и серьезна эта муза отчаяния и смерти.
Не всё в этом сборнике отсеяно и завершено; есть в нем и небрежная усталость, и застоявшаяся муть, что характерно для сборников, появляющихся через слишком большой промежуток времени. Но есть и страницы подлинного творческого откровения, уже как бы не посюсторонние страницы.
Нет, «мрачность» не была для Смоленского ни случайностью, ни «чужим влиянием». Это - если подойти к поэту со стороны - его «эпохальная», историческая тема; субъективно же - ключ к откровению, которое граничит с какими-то высшими прозрениями, уже выходящими за границы искусства. Вспомним из «Заката»: «Какое там искусство может быть, когда так холодно и страшно жить. Какие там стихи - к чему они...»[557]
Ни у кого из наших современных поэтов нет такого дара совести, какой дан Смоленскому: отмерен не скупясь, с жестоким обилием. И вот он, а наряду с ним или через него это видение беззащитности живого перед жизнью и смертью приводят Смоленского в его второй книге к прозрениям, о которых я говорил. Прозрения на грани того бытия «закрытыми очами» и открытыми, расширенными, поглощающими мир - «смотри, смотри, пока ты не ослеп»[558].
Ты на краю земли. - Какая тишь,
Какая тьма. Ты руки подымаешь
- О, как они прозрачны! - Ты летишь,
Ты падаешь, ты умираешь[559].
Но это для остающихся жить, для себя же - полет продолжается:–
Над миром этим - мир совсем иной,
Совсем прозрачный и совсем простой[560].
Меч, 1938, № 21, 29 мая, стр. 6. Рецензия на кн.: В. Смоленский. Наедине. Вторая книга стихов.
Александр Добролюбов (К 50-летию русского символизма)
К студенту-первокурснику Брюсову явился однажды маленький гимназист из Петербурга. Гимназист оказался петербургским символистом Александром Добролюбовым. Об этой встрече в дневнике Брюсова сохранилась запись:
«Он поразил меня гениальной теорией литературных школ, переменяющей все взгляды на эволюцию всемирной литературы, и выгрузил целую тетрадь странных стихов. С ним была и тетрадь прекрасных стихов его товарища - Вл. Гиппиуса... Я был пленен. Рассмотрев после его стихи с Лангом, я нашел их слабыми. Но в понедельник опять был Добролюбов, на этот раз с Гиппиусом, и я опять был прельщен. Добролюбов был у меня еще раз, проделывая всякие странности, пил опиум, вообще был архисимволистом. Мои стихи он подверг талантливой критике и открыл мне много нового в поэзии... Теперь я дни и ночи переделываю стихи... Странно - я вовсе не сумел очаровать Добролюбова, сознаю при этом, что он не выше меня, всё же чувствую к нему симпатию»[561].[562]
Ал. Добролюбов объявился в Москве вместе с Вл. Гиппиусом после выхода первой книги «Русских Символистов». Стихи петербургских молодых «декадентов» должны были пойти во второй книге сборника. Но поэты стали поправлять друг другу стихи и тут же поссорились, вскоре, впрочем, снова помирившись. С тех пор Добролюбова Брюсов зачислил в свои соратники и друзья, и благодаря исключительно сложившейся судьбе Добролюбова дружба эта сохранилась на протяжении многих лет. Слишком разные были это люди. Прямая противоположность Брюсову, Добролюбов не знал схоластического подхода к жизни. Каждую идею, как ни была она безумна, он пытался осуществить на деле, иначе и не мысля деятельной жизни духа. Но такова справедливость истории: не только удивительная жизнь этого мечтателя, но и само имя его прочно забыто.
В отрочестве Добролюбов был так застенчив, что не решался смотреть на женщин. Сидя за одним столом с гувернанткой, он закрывался рукой. Сильное влияние на него оказал друг его детства Владимир Гиппиус. Он заставил его читать новых поэтов и полюбить французских символистов. Но то, что у Гиппиуса, как и других, было лишь словом, Добролюбов не задумался претворить в дело. Отказавшись от различения добра и зла ради эстетики и доброго художественного чувства, он дошел до крайности, строя фантастические теории о задачах художника и искусства. Например, он отрицал науку и религию, заменяя их поэзией. «Люди придут к морю и сложат песню о море, придут к горам и сложат песню о горах. Вот вместо науки будет очень подробная песнь». Теория: всё дозволено - исповедовалась и применялась им в жизни еще в гимназии. Он уверял еще юношей, что не может никому пересказать своих грехов, боясь ввести другого в соблазн. Из университета его исключили за проповедь самоубийства. Он рано выступил в литературе как крайний декадент, представитель «магизма» и «демонизма».
Один современник (Л. Гуревич) так описывал его в то время:
«Странным казался мне этот мальчик с удивительными, огромными, черными глазами, в которых какая-то затуманенность и возбужденность наводила на мысль, что он морфинист, и которые вдруг поражали остротою и глубиною взгляда некоторых фигур Врубеля. В обществе он чудил и любил говорить пифически, иногда выражая нарочито дикими словами серьезную человеческую мысль... Посещавшие его рассказывали об его обитой черным комнате с разными символическими предметами, передавали - может быть, и действительно с его слов, что он служит черные мессы»...[563]
Тяготение символистов к непонятному, мистическому, подсознательному и сверхсознательному, создало в жизни Добролюбова что-то вроде умозрительно-психологического смерча, в один прекрасный день выбросившего поэта из его привычной среды и обстановки.