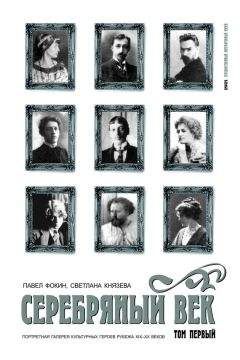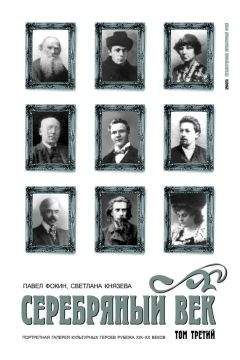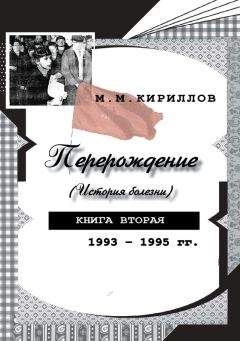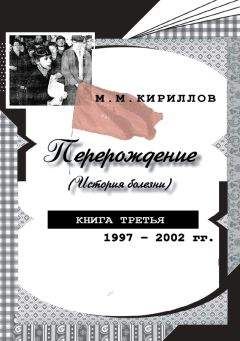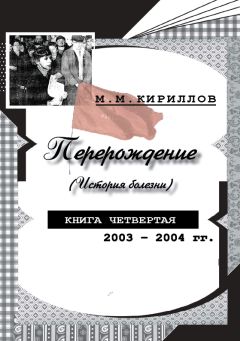Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.
«Я увидел его впервые на университетской кафедре в Москве, где приват-доцентом он читал курс лекций о реформе [18]61-го года в громадном зале, заполненном филологами, историками и юристами. Прямой, в черном сюртуке, с прославленной бородкой „Черномора“ и неустойчивом пенсне на черном шнуре, представительный и несколько чопорный. Когда же сходил с кафедры, он точно терял в росте и выигрывал в обыденности» (М. Вишняк. «Современные записки». Воспоминания издателя).
«Большое впечатление производили на многочисленную аудиторию лекции А. А. Кизеветтера, читавшего приват-доцентский курс по истории крестьянской реформы. Особенное для меня имело значение то, что Кизеветтер давал очень яркую картину состояния дореформенного крестьянства, приводя при этом обильное количество статистических данных, тщательно записанных на бумажечки и внимательно предоставляемых мне для переписки дома.
Этот курс был очень интересен, хотя был весь проникнут интеллигентски-либеральным настроением, как я мог потом его оценить. Блестящее внешнее устное изложение, снабженное широкими обобщениями, производило на меня очень сильное впечатление и послужило толчком для моих самостоятельных занятий крестьянским вопросом. Впоследствии, когда я уже в 1910 г. познакомился с его курсом лекций по русской истории XIX в., они мне показались уже мало интересными: слишком уж тенденциозно проводилась господствующая либеральная точка зрения…» (В. Пичета. Воспоминания о Московском университете. 1897–1901).
Александр Кизеветтер
КЛЫЧКОВ Сергей Антонович
Поэт, прозаик, друг Есенина, Эллиса, С. Соловьева. Публикации в журналах «На распутье», «Новый журнал для всех», «Заветы» и др. Стихотворные сборники «Песни. Печаль-Радость. – Лада. – Бова» (М., 1911), «Потаенный сад» (М., 1913; 2-е изд., М., 1918), «Дубравна» (М., 1918). Романы «Сахарный немец» (М., 1925), «Чертухинский балакирь» (М.; Л., 1926), «Князь мира» (М., 1928). Погиб в ГУЛАГе.
«Языком обязан лесной бабке Авдотье, речистой матке Фекле Алексеевне и нередко мудрому в своих косноязычных построениях отцу моему, Антону Никитичу Лешенкову (Клычков – фамилия по бабушке), а больше всего нашему полю за околицей и Чертухинскому лесу, в малиннике которого меня мать скинула, спутавши по молодости сроки» (С. Клычков. Автобиография).
«Сын крестьянина из села Дубровки, Тверской губернии, Сергей Клычков, так же как и Орешин, начал печататься рано, еще до революции. На него обратил внимание брат Чайковского, – и вот Клычков в Италии. Но от этой страны великих преданий, от ее неба, красок ничего не пришло в поэзию Клычкова. Участник первой мировой войны, он любил русскую тишину, неяркую природу, в которой, казалось ему, живет какая-то изначальная и тихая человеческая радость. Длинные волосы, какие носили художники, глаза, наполненные печальной укоризной, – все это останавливало на себе внимание. И я помню, как Воронский сказал, познакомив меня с Клычковым: „Если вы хотите услышать, как говорит Русь шестнадцатого века, послушайте его“. Я попросил Сергея Клычкова прочесть мне что-нибудь из своих стихотворений, и он прочел одно, слегка задыхаясь. А потом отвернулся и не стал больше разговаривать» (К. Зелинский. На рубеже двух эпох).
«…Был похож на стилизованного былинного добра молодца. И говорил он непросто, медленно, с запиночкой, разузоривая свою речь прибаутками; казалось, он подчеркивает, что вот я вроде и темный человек, балакирь, а науку превзошел и Клюева, Белого, Блока и Брюсова знаю, в московском кружке „Свободная эстетика“ бывал.
Но чувствовалось в нем и что-то простодушное, а главное, уж очень любил он слово как таковое, и вышивал он свою речь этими народными словами, любуясь ими, а не собой, потому что был он поэтом по всему своему душевному складу, даже тогда, когда писал свою прозу» (Н. Павлович. Страницы памяти).
«Называл он себя крестьянским поэтом; был красив, чернобров и статен; старательно окал, любил побеседовать о разных там яровых и озимых…В разговоре его была смесь самоуничижения и наглости… Не ходил, не смотрел, а все как-то похаживал да поглядывал, то смиренничая, то наливаясь злостью. Не смеялся, а ухмылялся. Бывало, придет – на все лады извиняется: да можно ли? Да не помешал ли? Да, пожалуй, не ко двору пришелся? Да не надоел ли? Да не пора ли уж уходить? А сам нет-нет да шпилечку и отпустит. Читая свои стихи, почтительнейше просил указать, ежели что не так: поучить, наставить. Потому что – нам где же, мы люди темные, только вот разумеется, которые ученые – они хоть и все превзошли, а ни к чему они вовсе, да… Любил побеседовать о политике. Да помещикам обязательно ужо – красного петуха (неизвестно что: пустят или пустим). Чтобы, значит, был царь – и мужик, больше никого. Капиталистов под жабры, потому что жиды (а Вы, простите, не из евреев?) и хотят царя повалить, а сами всей Русью крещеной завладеть. Интеллигенции – земной поклон за то, что нас, неучей, просвещает. Только тоже сесть на шею не дадим: вот, как справимся с богачами, так и ее по шапке. Фабричных – тоже: это все хулиганы, сволочь, бездельники. Русь – она вся хрестьянская, да. Мужик – что? Тьфу, последнее дело, одно слово – смерд. А только ему полагается первое место, потому что он – вроде как соль земли…
А потом помолчав:
– Да. А что она, соль? Полкопейки фунт.
Муни однажды о нем сказал:
– Бова твой подобен солнцу: заходит налево – взойдет направо. И еще хорошо, если не вынырнет просто в охранке» (В. Ходасевич. Некрополь).
«Когда Клычков шел по улице, на нем нельзя было не остановить взгляда. Он весь был особенный, весь самобытный. Только ему могла идти его „летняя форма одежды“: выглядывавшая из-под пиджака, обычно синяя косоворотка и шляпа, из-под которой выбивались черные вьющиеся волосы. Шляпа и косоворотка не создавали кричащего разнобоя. У Клычкова это воспринималось именно как сочетание, хотя и несколько странное. Глаз привыкал к нему не сразу, но, привыкнув, уже не мог представить себе Клычкова одетым на какой-то один покрой. Оригинальность манеры одеваться соответствовала оригинальности его внешнего облика. Черты лица его были крупны, резки, но правильны. Посмотришь на него да послушаешь окающий его говор – ну, ясное дело: русский мужик, смекалистый, толковый, речистый, грамотей, книгочей, с хитрецой, себе на уме, работящий, но и бутылке не враг, мужик, который ушел из деревни в город на заработки, давно уже на „чистой работе“ и с течением времени приобрел городские замашки: чисто бреется, носит шляпу, „спинжак“, а галстуков не признает. Но вот он задумался, мысли его сейчас далеко!.. В горделивой посадке головы что-то почти барственное. Все лицо озарено изнутри. В больших синих-синих глазах – глазах обреченного – читается судьба русского крестьянина, судьба русского таланта, всегда неблагополучного, всегда в чем-то и перед кем-то кающегося, за кого-то страдающего.