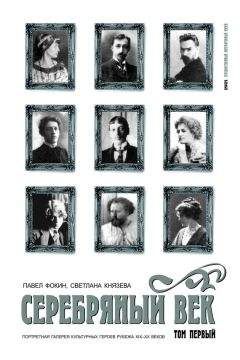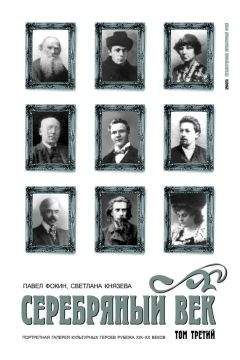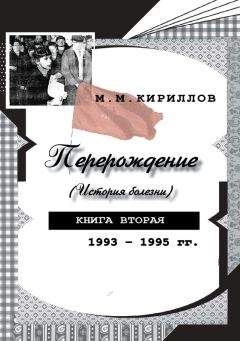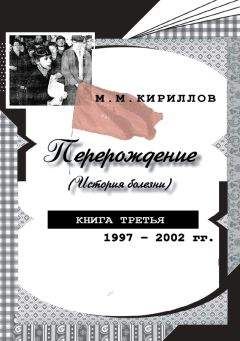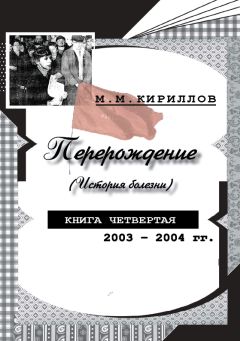Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.
Несомненно, в Клюеве было много артистического, стилизованного, но настолько настоящего, ему только ведомого и присущего, что привычная маска уже воспринималась как единственное и неповторимое лицо. Он очень был начитан, особенно в истории, многое знал. И, как это ни покажется странным, понимал и ценил европейскую культуру. Д. Хармс говорил, что Клюев свободно читал по-немецки и в оригинале цитировал „Фауста“ Гете. Он был совсем не так прост, как это могло показаться при первой встрече» (В. Мануйлов. Записки счастливого человека).
КЛЮН Иван Васильевич
Живописец, график, мемуарист. Один из идеологов беспредметной живописи. Принимал участие в выставках «Союз молодежи» (1913), «Трамвай В» (1915), «0,10» (1915), «Магазин» (1916), «Бубновый валет» (1916–1917) и др. Друг и соратник К. Малевича. Автор работ «Портрет художника Малевича» (1912), «Голова пильщика» (1914–1915), «Пробегающий пейзаж» (ок. 1915), «Супрематизм» (1915), «Музыкант» (1916).
«Не довольствуясь достигнутым в области искусства, я всегда искал новых и новых форм, искал серьезно, вдумчиво и потому в искусстве шел рука об руку с левыми художниками; а в жизни держался серьезно и скромно, не выдавая ничем своих крайних в искусстве воззрений и не прибегая ни к каким курьезным и вызывающим выходкам, – я слишком серьезно относился к исканию новых форм искусства, а курьезные выходки, я считал, к самому искусству не имеют отношения, – они, по мысли их исполнителей, должны „эпатировать буржуа“, а я никого не имел намерения эпатировать, я хотел только серьезно и вдумчиво работать.
…Народу на наших выставках бывало много. Наибольший интерес возбуждала моя большая кубистическая скульптура „Дама за туалетом“. Она была мною сделана из разных материалов: дерево, стекло, белая жесть, бронза, толь и другие; одна грудь была полукруглая, обтянутая коричневой кожей (от перчатки), другая – из чистого дерева, плоская, четырехугольная. Эту плоскую грудь потом кто-то стащил, и скульптура осталась с одной грудью: я нашел, что она (скульптура) от этого мало пострадала, так и оставил ее с одной грудью.
Мне интересно было проследить, как будет реагировать публика на мои кубистические и супрематические произведения. Я встал в простенке между окон в зале, где находились мои работы, и, изображая публику, слушал, что говорят посетители выставки. Конечно, мнения были самые дикие, по большей части ругательные, вроде „полное отсутствие воображения“, „какое убожество мысли“, „что такое, что такое? Нарочно не придумаешь, идиотом надо родиться, чтобы написать такую вещь“, „дорого бы я дал, чтобы посмотреть на автора, как он из себя выглядит“, „интересно было бы узнать, что эти футуристы так же пьют чай, как и все?“ и тому подобное, все в том же роде. Пришел морской офицер с дамой, берут в кассе билет; дама спрашивает: „Она здесь?“ Офицер отвечает: „Нет, она дальше, в последней зале“. Мне стало ясно, что идет речь о моей „Даме за туалетом“. Я последовал за ними. Они стояли перед моей скульптурой. Офицер объяснял, а дама, видно, ничего не понимала. Вдруг дама „Ах, ах!“ и забилась, как в истерике, – она наконец поняла. Офицер подхватил ее под руку, подставил ей стул, и она долго и дико хохотала так, что слезы у нее блестели на глазах. Я работал скульптуру свою вдумчиво, серьезно, руководствуясь определенной идеей, и такое отношение публики к моим работам огорчало меня, – а товарищи-художники поздравляли меня с успехом.
…Приятель мой, Малевич, в футуризме, как в котле, кипел; меня же футуризм захватить не мог, хотя я тоже всегда протестовал против застойных, затасканных, модных понятий, традиций и фраз. Меня в искусстве никогда не интересовал скандал (да и в жизни – тоже); я всегда стремился к новой и строгой форме, к новому мировоззрению, а футуризм в этом отношении ничего нового не давал, – он как будто пузырем с горохом бил по головам людей, но и только. Поэтому на футуризме я почти не останавливался и очень скоро перешел к кубизму, так как кубизм есть определенное мировоззрение, определенная художественная форма, строгий стиль» (И. Клюн. Мой путь в искусстве).
КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович
Историк, публицист, педагог. Публикации в журналах «Русский мир», «Православное обозрение» и др. Сочинения «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871), «Боярская дума Древней Руси» (М., 1881; 4-е изд., М., 1909), «Добрые люди Древней Руси» (1892; 3-е изд., М., 1902), «Курс русской истории» (ч. 1, М., 1904; ч. 2, М., 1906; ч. 3, М., 1908; ч. 4, М., 1910; ч. 5 (не закончена),М., 1921); «Очерки и речи» (М., 1913), «Отзывы и ответы» (М.,1914).
«Огромная, так называемая „богословская“, аудитория историко-филологического факультета была по горло набита студентами. Ключевского слушали все факультеты, вплоть до медицинского. В боковую дверь на эстраду тихо и незаметно вошел сгорбленный седой старичок с бородой клочьями, в очках, из-за которых выглядывали сощуренные зоркие глаза. Выждав, пока прекратилась буря аплодисментов, он подошел к кафедре, оперся на нее и вынул из бокового кармана сюртука тетрадку. Потом, сощурившись, еще раз поглядел на аудиторию и начал говорить. Говорил он очень тихо, с интонациями, оттеняя каждое слово…Ключевский читал о прошлом так, как будто оно было настоящее. И в то же время это была история, а не подделка под настоящее» (К. Локс. Повесть об одном десятилетии).
«Можно сказать безошибочно, что к концу вступительной лекции Ключевского все слушатели были влюблены в этого лектора-чародея. И затем весь его двухгодичный курс прослушивался с тем же напряженным и восхищенным вниманием. Этот курс пленял неотразимо необыкновенным сочетанием силы научной мысли с художественной изобразительностью изложения и с артистическим искусством произнесения. Те, кто слушал этот курс из уст самого Ключевского, хорошо знают, каким существенным дополнением к его словам служили виртуозные интонации его голоса.
…В Ключевском органически сочетались глубокий ученый, тонкий художник слова и вдохновенный лектор-артист. Вот почему он был поистине гениальным профессором.
Василий Ключевский
…В основу его курса русской истории легла совершенно самостоятельно разработанная концепция истории России, в которой все лучшее из того, что дала „юридическая школа“, было органически объединено с результатами социально-экономического анализа основных процессов русской народной жизни. Признавая основным фактом всей русской истории колонизацию („История России есть история страны, которая колонизуется“), Ключевский делил историю России на периоды по главным этапам этого колонизационного процесса и затем для каждого периода выдерживал один и тот же план изложения. Сначала давалась очень яркая картина политического строя данного периода. Доведя характеристику этого строя до такой степени ясности, что слушателю начинало казаться, что он уже проник в самую суть тогдашней исторической действительности, Ключевский затем раздвигал рамки изложения, и перед слушателем сразу открывалась обширная дальнейшая область изучения: перед ним вставала не менее яркая картина отношений социальных как основы изученного ранее политического строя. И когда слушатель начинал думать, что теперь-то он уже держит в руках ключ от всех замко́в исторического процесса, лектор еще раз раздвигал рамки изложения на новую область фактов, переходя к изображению народного хозяйства соответствующего периода и показывая, как складом народно-хозяйственных отношений обусловливались особенности и политического, и социального строя. Получалось впечатление вроде того, какое приходится испытывать, когда едешь по горному перевалу: кажется, что дорога вот-вот упрется в скалистую стену и дальше ехать будет некуда, как вдруг неожиданный поворот открывает перед путником новую обширную котловину. При таком порядке изложения чрезвычайно выпукло обрисовывалась взаимозависимость исторических явлений, и перед слушателем вырастала схема русской истории, законченная, стройная, пленяющая умственный взор выдержанностью всех своих линий. И в то же время от этой схемы не веяло мертвенной отвлеченностью, потому что, как я уже указал выше, Ключевский не усекал факты на прокрустовом ложе предвзятой доктрины, но умещал в рамках своей схемы всю многообразную и порой противоречивую пестроту подлинных картин исторической жизни.