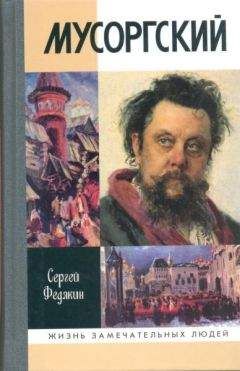Скрябин - Федякин Сергей Романович
Музыка сближается с пластическим искусством, только танцевальные или мимические движения совершает не явно зримое, но лишь слышимое звуковое «тело». «Загадку», эту странную, причудливую вещь, первой нарушившую бывший до того незыблемым закон («забывшую» в конце про тонику, как позже это сделала 5-я соната), Скрябин однажды описал словесно: небольшое крылатое существо «женского пола», вертлявое, кокетливо извивающееся. Позже, когда будет создаваться пьеса «Странность», он увидит нечто подобное, столь же «бедовое», но ко всему еще и «склизкое». И это в его музыке было далеко не единственное зримое «звуковое тело». Слишком часто теперь у Скрябина музыка заставляет видеть движения — «взмахи», «порхания», «грозные прыжки», прозрачное свечение… Идея «светомузыки», «световых форм» сама вырастала из новых сочинений композитора. Свет (как иногда и сумрак) излучался из звуков, сгущаясь до зрительных «иллюзий»: что-то «порхает», «подпрыгивает», «ласкается», «томится». «Свет» до своего воплощения в партитуре «Прометея» сначала вошел в слух. Он стал такой же «внутренней необходимостью» для Скрябина, как и музыкальное многоточие в конце произведения.
На пороге встречи с Россией он совсем ушел от европейской классики, расставаясь уже и с понятием «тоника», по крайней мере — с тем ее смыслом, в каком было принято употреблять это слово в музыкальной литературе. Мейчик вспомнит, как в Лозанне кто-то при Скрябине заиграл начало бетховенской «Лунной сонаты», и всегда сдержанный композитор, переодевавшийся в другой комнате, выскочил к роялю полуодетый, взмолившись: «Ради бога, перестаньте, не могу я слушать эту музыку!» Он не мог слышать классику не потому, что она «надоела». Его ухо улавливало уже совершенно иную реальность, где прежняя музыкальная система была просто неуместной. «Развод» с тоникой по-своему выразил разрыв со старым миропорядком. Странная, многообразная Россия на излете имперской истории содержала в своей жизни мало «тонических опор». Скоро и весь «классический» мир «поплывет». Он слетит с прежних твердых устоев, утратит внутреннее спокойствие, вступит в эпоху жесточайших войн. Скрябин одним из первых услышал это тревожное будущее, сказав о нем своей «экстатической» музыкой.
«ПРОМЕТЕЙ»
Родной ландшафт… Под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой
Синеет даль — с ее угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой…
Все голо так — и пусто-необъятно
В однообразии немом…
Местами лишь просвечивают пятна
Стоячих вод, покрытых первым льдом.
Один из наиболее ценимых Скрябиным поэтов — Федор Иванович Тютчев — написал эти строки в конце октября 1859 года, возвращаясь из Европы в Россию. Его поразила не столько разность «пейзажей», сколько разность двух миров, внешне граничащих, но в глубинной своей сути противоположных. Скрябин возвращался в Россию через полвека после Тютчева. И не осенью — зимой. «Стоячие воды» были покрыты уже не первым льдом, в них, заметенных толстым слоем снега, не было «зеркальности». И все же то, что он видел, могло не совпадать с чувствами поэта, с ощущениями полувековой давности лишь в деталях. В целом — было что-то общее. Снежные равнины проплывали за окнами поезда. И зимнее солнце, его низкий свет еще более увеличивали разрыв между Европой и Россией.
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,
В каком-то забытьи изнеможенья
Здесь человек лишь снится сам себе.
Как свет дневной, его тускнеют взоры,
Не верит он, хоть видел их вчера,
Что есть края, где радужные горы
В лазурные глядятся озера…
«Радужные горы», Женевское озеро — словно и вправду все это приснилось. И Париж, и Больяско, Швейцария, Америка, Бельгия… Путь из Брюсселя в Москву лежал через Берлин, где пришлось присутствовать на репетициях «Божественной поэмы». Оскар Фрид давно восторгался этой вещью и теперь исполнил ее с блеском. Но русская равнина, но бледное солнце, на которое наползает муть… «Здесь человек лишь снится сам себе…» Что ждет его в России? Какая жизнь «приснится» ему здесь? Не остынут ли в зимнем этом сне все пламенные мечты и чаяния?
Отзвуки его победной музыки с недавнего берлинского концерта боролись в душе с минутными сомнениями. Успел ли он услышать отклики удивленных берлинских обозревателей? «В высшей степени своеобразное произведение… композитор не только устремляется ввысь, но и действительно способен возлегать… Он идет собственной дорогой, и когда все-таки невольно вступает на пути Вагнера и других, то тотчас же, опомнившись, возвращается к желанной самостоятельности… необычайно смел этот русский композитор… Скрябин — личность, и своей Третьей симфонией обещает стать личностью выдающейся».
Да, все схватывали новизну. Могли восторгаться, могли сомневаться: но как отрицать «особость», «необычность», «неожиданность» его музыки?
Русский снег лежал ровно, однообразно. Небо подернулось серой мутью. Здесь пока неясны были ни судьба его творчества, ни его личная судьба. Как встретят в Москве Татьяну Федоровну? За конечное торжество своих произведений можно было не беспокоиться, но положение жены, семьи, его собственное положение будили тревожные предчувствия.
Он знал: его не забыли в России. Здесь помнилось и ошеломляющее впечатление от петербургской премьеры «Божественной поэмы» в феврале 1906-го. Помнились концерты пианистов, игравших Скрябина. Помнились и отклики на эти концерты. О нем — пусть не часто — но писали критики, с мнением которых считались. В общем тоне статей преобладало сомнение, но все же — то там, то здесь — прорывалось и чувство восхищения.
Да, но радовались старому. Когда еще была написана его наивная 1-я соната, — и вот услышал критик Тимофеев, расхвалил: «Выдающееся произведение». И сколько в таких восторгах было чепухи! Про автора Тимофеев заметил, что его «звуковое миросозерцание» близко «шопеновскому». И это когда уже готов был «Экстаз»!
Многие теперь снова будут ждать «шопеновское», а услышат совсем иное… Все-таки сколь кстати прозвучал прошлогодний отзыв Лядова, брошенный одному из газетчиков: «Я считаю Скрябина самым выдающимся композитором из тысячи модернистов не только России, но и всего Запада».
Нет, и за нынешний приезд вряд ли стоило беспокоиться. Его играли в Москве, Петербурге, Новгороде, Казани, Саратове, Одессе. Слышали недавно 5-ю сонату. Мейчик заставил ее услышать. И Энгель почувствовал ее силу, ее ослепительную новизну, о чем и написал в «Русских ведомостях». И Крейн в «Голосе Москвы» сказал о ней весьма торжественно: «Совершенно новая эра в творчестве Скрябина и в музыке вообще…»
И не только Марк Мейчик готовил этот приезд. Его исполняли И. Гофман, К. Игумнов, А. Гольденвейзер, Л. Николаев. Исполняла его и Вера Ивановна… Тогда, в 1906-м, он готовил ее к концертам, проходил с ней программу и… надеялся на скорый развод, на дружеские отношения. А Вера вдруг заупрямилась, стала упорствовать, — ни развода, ни дружбы. Таня во всех бедах винила ее. И правда: «незаконность» их союза мешала на каждом шагу, и когда снимаешь номер в гостинице — двусмысленность, и Америку пришлось так спешно покинуть, что все надежды заработать денег разом рухнули. Сначала он раздражался. Потом начал сердиться. Вера превращалась во врага…
16 октября 1908 года Вера Ивановна выступила в Малом зале Московской консерватории. 30 ноября повторила программу в Малом зале консерватории Петербургской. Играла и поздние вещи — «Мечты», «Хрупкость», «Загадку»… Знал ли Скрябин об этих концертах? Что мог думать о них? Она заставила писать о его музыке. Критики заговорили о его ритмах, темпах, гармонии. Об «утонченнейших движениях чувства и страсти», о «своевольных каскадах звуков», «причудливой эскизности» и главное — о красоте этой музыки. Но заговорили и о ней, о Вере Скрябиной, которая «самоотверженно» исполняет композитора Скрябина. «…Скромно и сознательно отодвигающая на второй план свое личное я во имя той музыки, которую она взялась пропагандировать…» — в этих строчках Коломийцева был очевидный намек на его, Скрябина, семейную жизнь. «…Во всем характере ее исполнения есть что-то удивительно симпатичное, что-то простое, чистое, целомудренное, действующее облагораживающим и оздоровляющим образом на некоторые скрябинские эксцессы». Такая заметка с «эксцессами», попадись она на глаза Татьяне Федоровне, могла приобрести очертания скандала.