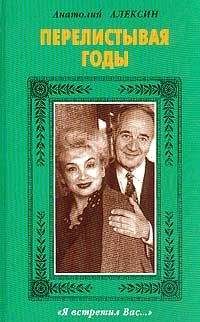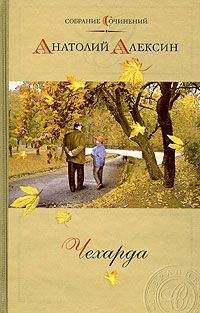Анатолий Алексин - Перелистывая годы
Романыч физической боли даже в ничтожных количествах не выносил. От страха он стал заикаться… Его бывший шеф Андрей Януарьевич, тоже не желая страданий, которые столь глобально обрушивал на другие судьбы, сразу после разоблачительного XX съезда либо застрелился в Нью-Йорке, на посту советского представителя в ООН, либо, как было объявлено, скончался от сердечного приступа. Такое извещение не устроило многих, потому что сердечный приступ подразумевал, что у Вышинского было сердце.
Лёвчик нередко и словно бы мимоходом пытался преуменьшить масштаб отечественных злодеяний: «Все-таки в основном Сталин уничтожал своих же собственных ставленников и сподвижников».
Мне не раз приходилось напоминать ему то, о чем, «перелистывая годы», я уже писал… В соседней с отцом камере был заточен целый десятый класс – дети, школьники…
В своем собственном – беспредельно далеком, но и недавнем – детстве я дружил с Витей Радзивиловским. Именитые польские паны Радзивилы к евреям, как известно, отношения не имели. А Виктор тем не менее был евреем. А кроме того – очень компанейским и милым парнем. Милым представлялось мне и все его семейство. Бабушка, искусная кулинарка, постоянно звала нас к столу: «Я приготовила блынчики… Такие блынчики со сметаной!..»
Бушевала вторая – черная! – половина тридцатых годов. Отец мой был арестован. «Блынчики» со сметаной выглядели для меня недоступным деликатесом – и от приглашений гостеприимной Витиной бабушки я не отказывался. Витина мама – пышная рыжеволосая красавица Софа – смотрела на меня сострадательно и незаметно засовывала мне в карманы пальто бутерброды: то с черной икрой, то с красной. Обилие той и другой в доме Радзивиловских удивляло меня. Как и то, что жили они в особняке… Одноэтажном, но все же особняке! До войны это представлялось нереальностью, сказочным «исключением из правил».
Папа Витин был малорослым, щупловатым, тоже рыжеволосо-кудрявым, но, в отличие от мамы, красой не блистал. Лицо было неприметным. По утрам он обычно оказывался дома, что тоже меня удивляло. Он трогательно следил, чтобы мы, учившиеся во «вторую смену», выполняли все домашние задания, сытно заправлялись обедом перед школой, а на пути к ней аккуратно пересекали улицы. Он напутствовал нас всякими заботливыми пожеланиями: «Если проголодаетесь, сходите в буфет! Вот вам деньги. Если вызовут к доске, не теряйтесь…»
Однажды Витин папа пришел домой вечером. Это было необычностью. Но еще большей неожиданностью было то, что я узрел на нем привилегированно скроенную гимнастерку защитного цвета, на воротничках – по четыре ромба, а на рукаве – по-фашистски паучий знак, но изображавший щит и меч.
– Витя, а кто твой папа? – еле слышно спросил я, когда тот скрылся в своем кабинете.
– А он… руководит управлением НКВД по Москве и Московской области, – на миг запнувшись, но без особого замешательства сообщил Виктор.
Один из самых главных в Москве чекистов? Значит, это он арестовал и расстрелял всех (всех без исключения!) ближайших друзей моего отца? Самого отца, по «счастливому» стечению обстоятельств, посадили в Челябинске, в провинции, где к стенке приставляли не столь скоропалительно. Выходит, это он, заботливый Витин папа отправил на тот свет (разумеется, по приказу!) высших руководителей, знаменитых ученых и деятелей культуры, да и тысячи «рядовых» москвичей? Это он – щупловатый, рыжеволосый, беспокоившийся о наших школьных отметках и завтраках, о нашей безопасности на московских улицах? Все это он?!
Мой блокнот и мои читатели
Из блокнота
Писатель живет ради них, своих читателей и зрителей. В романах, повестях и рассказах, в пьесах и сценариях фильмов, автор непременно – и порою даже непроизвольно – делится своим жизненным опытом, своими размышлениями, страданиями и надеждами.
В театре, в зрительном зале сразу видишь, чувствуешь, каждое мгновение ощущаешь, каково восприятие твоего произведения (простите за громкий термин!). Если что-то не так, на следующем представлении можно исправить, улучшить, либо обострить, либо смягчить… Но книга, коль она уже явилась к читателям, такой и останется. До ближайшего переиздания, если оно состоится… С книгой, с журнальными и газетными публикациями читатель общается наедине. Автор при сем не присутствует. Позже, однако, письма и читательские конференции (тоже высокопарное слово) могут донести до автора мнение тех, ради кого все его неусыпные думы, смятения, его беззащитная откровенность, его труд.
Передо мной – письма читателей. Письма, письма… Вспоминаю и многочисленные устные высказывания на литературных встречах. Они, те письма и высказывания, как бы пополняют мой писательский блокнот новыми абзацами и страницами.
Владимир Соловей в своем письме вспоминает, как однажды в московском Центральном Доме литераторов он услышал от меня строки стихотворения, автора которого я и сейчас с уверенностью назвать не могу:
А люди ищут
счастье,
Как будто
счастье есть…
Многие, очень многие вопросы читателей можно свести к такому общему смысловому знаменателю: что являет собой в реальности понятие «счастье»? Интересуются и тем, бывал ли я когда-нибудь абсолютно счастлив. Отвечаю сразу и не задумываясь: «абсолютно» не бывал никогда. Аркадий Исаакович Райкин мне говорил:
– Самый бессмысленный вопрос звучит так: «У вас все хорошо?» Разве хоть у кого-нибудь и когда-нибудь бывает все хорошо?!
А если бы вдруг и было… Ощущать этакое безграничное, бездумное и беспечное счастье – это, на мой взгляд, безнравственно и грешно. Ведь если даже у тебя все вроде бы сложилось благополучно, кто-то в это самое время испытывает душевные и физические муки, а кто-то горько оплакивает кончину близкого человека, а кто-то сам прощается с жизнью…
Классики русской литературы проникли в глубочайшие глубины общечеловеческих ситуаций, общечеловеческих конфликтов и психологических катаклизмов. Они постигли непостижимые сложности бытия людского.
Что же они думают о столь желанном для каждого счастье? Пушкин, как известно, писал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Под волей он разумел свободу. Лермонтов искал «свободы и покоя» – и это было едва ли не самым сокровенным его стремлением. Правда, противоречивость мечтаний и действий была свойственна порой и великим. Искал-то Лермонтов «покоя», а в реальности уподоблялся тому парусу, который «ищет бури, как будто в бурях есть покой!».
«Покой нам только снится…» – через много лет печально констатировал Александр Блок. Быть может, во второй половине двадцатого века покой людям уже и не снится. Но все же мы жаждем душевного покоя, в котором только и возможен творческий непокой и благотворный непокой в любой другой деятельности, необходимой людям.