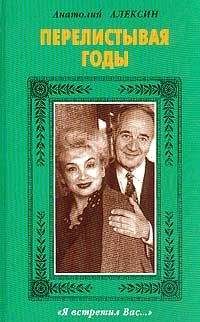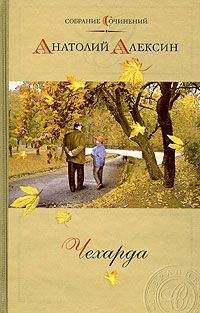Анатолий Алексин - Перелистывая годы
Афон, мы с Таней помним ту руку и лицо твое, открытое навстречу справедливому «за» и бесстрашному «против». А рядом – лицо Раечки, вдохновительницы твоей и вернейшей подруги (на фронте – в дни битвы и в прекрасном вашем доме – в дни мира)…
Двоюродный брат мой – по имени тоже Анатолий – в годы войны был летчиком-торпедоносцем на Крайнем Севере.
Торпедоносцев втихую именовали «смертниками»: их повседневной обязанностью было топить фашистские транспорты. Топить любой ценой: бомбить, таранить, а в крайнем случае – «падать» на ощетинившиеся зенитным огнем корабли.
Под «художественным руководством» Алексея Германа был создан фильм «Торпедоносцы», до того, как свидетельствовал брат мой, достоверный, правдивый, что порою казался документальным. Там воссозданы доблесть и ужас тех дней…
– Были у нас на Севере и писатели, – рассказывал брат. – Даже знаменитые! К примеру, Лев Кассиль, Константин Симонов… Бесстрашно себя вели. Хотя это было трудно…
А уже после войны мне доводилось читать всякие пасквили про одного и другого. Лев Абрамович кому-то не угодил своим «пятым пунктом», а Константин Михайлович – вероятно, своей знаменитостью и, как считали, удачливостью. Читал я и думал: неужто забыли их храбрость, забыли кассилевские повести и романы, симоновские стихи, которые мы из газет вырезали и наизусть знали? Неужели забыли?!
Важно, конечно, чтобы читатели помнили… А завистники и пасквилянты? Иногда говорят: «Не обращайте на них внимания!» Взор и разум способны «не обращать», но сердца не выдерживают. Клеветников иногда можно приравнять и к убийцам: они укоротили многие жизни.
Помню страшную двухподвальную статью на страницах «Правды»: «Выше революционную бдительность!..» В ней литературовед Евгения Александровна Таратута, посвятившая свое перо литературе для детей и подростков, обвинялась не в чем-нибудь, а в… шпионаже. Автором лжесенсации, размноженной многомиллионным тиражом, был ответственный секретарь, а позже первый заместитель главного редактора по фамилии Козев.
– Пошла «коза рогатая»! – с безнадежностью произнес Кассиль. – Какими «шпионскими сведениями» располагала Женя? Разве что нашими книжками?
Время было погромное. Казалось, в канун кончины «вождь и мучитель» боялся, что не успеет… кого-то заточить, кого-то отправить на тот свет. Палач торопился, громоздил одно злодеяние на другое. И вот в те годы Лев Кассиль и Агния Барто регулярно отправляли посылки в концлагерь Евгении Таратуте. И не потому, что она была биографом их творчества, а потому, что была человеком высокой порядочности. Они верили ей – и не собирались от нее «отпираться», чем бы это им ни грозило. Повсюду защищали ее…
– Как она там, бедная? Как?! – вопрошал Лев Абрамович, не надеясь на чей-то ответ. – Я вижу ее лицо.
А я вижу и их лица… Лица тех, которые в любых обстоятельствах, порой в нечеловеческих условиях оставались людьми.
Много раз писал я о мраморных досках возле двух входов в Центральный Дом литераторов – с улицы Герцена и с Поварской. Я всегда помню тот камень, те вросшие в него имена московских писателей, что сложили головы на полях Отечественной. Разные национальности, разные дарования… Но они навсегда вместе. Их навечно побратали, соединили подвиг и ненависть к фашизму. А если ненависть ко злу и стремление к братству объединят вообще всех честных, хороших людей (к ужасу плохих!). Об этом мечтал Толстой… Несбыточные грезы? Вероятно. Но вдруг когда-нибудь сбудутся?