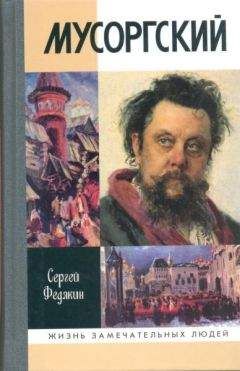Скрябин - Федякин Сергей Романович
Так и ранние симфонические образы Скрябина найдут свое сжатое отображение в «Поэме экстаза». Хотя бы — из Первой симфонии: вступительное анданте «спрессуется» в «тему томления», порхающее скерцо (4-я часть) целиком уместится в несколько строчек «темы полета» в экспозиции, драматические 2-я и 5-я части слабым эхом отзовутся в сшибке тем — «тревоги», «воли» и «самоутверждения», хоровой гимн искусству, сжатый «до точки», — в ликующих звуках последней кульминации…
Но и в тех различиях, которые обнаруживаются между экспозицией и разработкой, с одной стороны, репризой и кодой, с другой — действует все тот же закон: что раньше было всем — и рождаемым произведением, и содержанием души художника — теперь отступает, начинает «спрессовываться»[115].
В «Поэме экстаза» — если сопоставить ее с более ранними сочинениями — не просто можно «узреть» закон жизни творческого сознания, но она сама изображает этот закон. Спад после первой кульминации — это отдаление художника от мира, им созданного. Он еще должен к нему вернуться, чтобы добиться должного совершенства. Но такое удаление возможно лишь в тот момент, когда все им совершенное — все разнообразные мысли и переживания как бы «сожмутся» в одну идею-чувство. В сущности, ту идею, которая и лежит в основе произведения, но которая становится кристально ясной, когда произведение завершено[116].
Во второй половине «Поэмы экстаза» как бы «выпадают» многие медленные, «бестревожные» части экспозиции и разработки. Рожденные в произведении переживания чуть-чуть «спрессовались» в сознании художника. Его «образ мира» — во время создания музыкально-философских образов — более всего претерпел изменения под воздействием «силовых» тем: под давлением «ритмов тревожных», под толчками «импульсов усилия» из темы «воли», в полете самоутверждения «Я есмь!». Созданные в экспозиции и разработке образы преобразили дух художника этой «триадой» тем (потому и выпали в репризе «медленные» фрагменты). Но «пережитое» рождение и воплощение этих образов уже перестало быть «первичной» эмоцией, «катарсис», то есть «очищение» через трагедию, — уже свершился. Художник только-только отошел от созданного. И непосредственное переживание начинает замещаться «знаком», в котором прежнее' отчаяние может переживаться теперь как ликование. Из драматического «созидательного» состояния душа художника переходит в состояние «небожительства», «богоравности». То, что было больно, стало радостью, «вечным творчеством».
Последний, завершающий «рывок» «Поэмы» венчает этот гимн творчеству. Темы «ритмов тревожных», «воли» и «самоутверждения» идут в сложнейшем синтезе. От темы воли «отсоединяется» трехнотный мотив, который превращается в триольный, триумфальный «фон». В него — в сопровождении «ритмов тревожных», переродившихся в торжествующий «аккомпанемент» духовых, — громогласно вступает «расширенная» (проведенная в увеличении, — медленнее, непреложнее) тема самоутверждения. Все темы, мотивы, звуки сливаются с перезвоном колоколов: художник создал произведение, и произведение преобразило его самого.
Последние такты «Поэмы экстаза» — самое невероятное, чего достиг Скрябин в музыке. За отзвучавшим громогласным аккордом, в котором еще не было чистого мажора и потому еще в глубине звукового напора чувствовалась остаточная тревога, наступает оглушительная тишина. На мгновение все замирает. Но вот — тихо-тихо — просыпаются секундные «томления-вздохи» всего оркестра, звучность нарастает, все больше, больше, «вздохи» секунд поднимаются выше, выше, выше — и наконец все разрешается в ликующий До мажор.
Финал словно провозгласил то мелодическое «зерно», из которого поэма проросла, ту «первопричину» произведения, которую в результате долгих мук творчества как бы прозрел композитор. Если экспозиция и разработка рассказали о творческом состоянии художника, реприза и кода — о его творческом преображении, то в финальных тактах все пережитое, переосмысленное сжимается в единое «мыслечувство» — восходя от «блаженного» пианиссимо до торжествующего многократного форте. Вся «Поэма экстаза» «свернулась» в единый образ.
Последние такты словно отвечают однажды брошенной идее Скрябина: внешнее утончение совпадает с высшей грандиозностью. Композитор всегда много бился над формой произведения, высчитывая все вплоть до количества тактов, до того, «хвостом вниз» или «хвостом вверх» записать ноту, до полной чистоты голосоведения. «Надо, чтобы меня удовлетворило целое, форма, — признался он однажды Сабанееву. — Надо, чтобы было как шар». В «Поэме экстаза», которая словно выросла вся из нескольких мотивов и в завершении провозгласила осиянную истину, «сблизив» свое начало и свой конец, этот «музыкальный шар» совершенен. И ослепителен.
* * *
Это было впечатление не одного Скрябина. Многие переживали сходное. «Экстаз» завершался невероятным подъемом, крайним напряжением творческих сил, казалось, музыка в финале озарена ослепительным светом. Невероятная любовь Скрябина к солнечным лучам, даже к солнцепеку, неприязнь к шляпе в ясные дни — и последние такты «Поэмы экстаза» — это разные воплощения одного и того же чувства.
Среди его современников были и другие «солнцепоклонники». Василий Розанов настойчиво внушал: Солнце — это живое существо. «Разве вы не слышите, — взывал он, — как звенит Солнце. И лучи его тайно несут везде мелодию. И входят музыкою в цветок. И в человека тоже музыкою…» Константин Бальмонт одну из самых известных своих стихотворных книг наполнил этой «музыкой лучей»:
— Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…
— Ты от Солнца идешь и, как солнечный свет,
Согревательно входишь в растенья…
— Ты широко раскроешь очи,
Увидев Солнце в вышине!..
Само название книги звучало как клич: «Будем как Солнце». Словно отвечая на этот призыв, Александр Чижевский, ученый редкого универсализма, создает теорию о влиянии солнечной активности на земную жизнь: мы не «будем как Солнце», мы есть «как Солнце». Лучи нашего светила действительно входят в цветок, в природу, в человека, в человечество, и входят не только «мелодией». Мир сотрясается катастрофами, войнами, революциями тоже не без «импульсов», посылаемых Солнцем.
И Скрябин был «пронизан» не только мелодией, но и «взрывами» лучей. Последняя кульминация в стихотворной «Поэме экстаза» звучала тоже на предельном форте:
Я миг, излучающий вечность,
Я утверждение,
Я экстаз.
Пожаром всеобщим
Объята вселенная…
«Высшая утонченность есть высшая грандиозность» — это та формула, которая, выраженная звуками, соединяла воедино микрокосм и макрокосм. Рождение «Поэмы экстаза» сопровождало не только создание ее стихотворного варианта. Тетрадь композитора пестрит нескончаемыми философскими записями.
Здесь, как и ранее, психологии больше, нежели философии. Настоящая жизнь Скрябина — это его творчество. Все прочее: нужда, неустроенность, необходимость давать концерты — это чуждое воздействие («ритмы тревожные») или досадные помехи. Записи Скрябина — не столько след «философских исканий», сколько фиксация самоощущений человеческого сознания в момент творчества или наброски для своего сочинения:
«Я начинаю свою повесть, повесть мира, повесть вселенной. Я есмь, и ничего вне меня. Я ничто, я все, я единое и в нем единообразное множество. Я жить хочу. Я трепет жизни, я желанье, я мечта. О мой мир, излученный, мое пробуждение, моя игра, мой расцвет (мое исчезновение), чувств неизведанный играющий поток. Еще, всегда еще, другого, нового, более сильного, более нежного, новой неги, новых терзаний, новой игры. Пока не исчезну, пока не сгорю. Я пожар. Я хаос…»