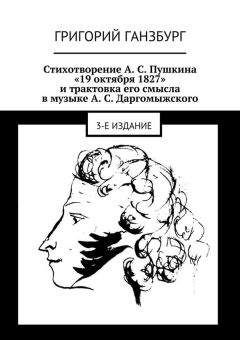Григорий Коновалов - Вчера
Едва я вошел под сарай, как в дверях появился дедушка. Участливо взглянув в глаза мои, он спросил:
- Хвораешь, Андреика? Белый с лица-то.
- Ни-ничего, - запинаясь, ответил я. И заметил, как взгляд деда скользит по моему лицу вниз. Я невольно проследил за этим щупающим взглядом и увидел, что из-за пазухи торчит мешок.
- Это что за тряпка? - небрежно спросил дедушка, выдергивая мешок. Что-то жесткое сверкнуло в его серых глазах.
Страх перед Микешей и ненависть к нему, угроза разоблачения, сознание своей вины оглушили меня. Будто сквозь сон, слышал я слова деда:
- Что ты делаешь, Андрей?
И та самая костлявая рука, которую я всегда любил, угрожающе поднялась над моей головой. Я зажмурился но рука легко опустилась на мое плечо. Лучше бы дед ударил, чем обнял.
- Пойдем, внук, хворосту нарежем, - весело сказал дед и. не дожидаясь моего согласия, взял меня за руку.
На берегу пристал к нам Микеша. Меня удивило то нагловатое спокойствие и достоинство, с каким он сказал:
- Еремей Николаевич, ты очень нсмолодел.
- А чего мне стареть, - ответил дедушка, загадочно блестя глазами. Он срывал по пути щавель, угощал нас.
"Почему они притворяются? Ведь оба знают, что я вор, а, видишь, как весело говорят", - думал я. И мне хотелось, чтобы ничего не было: ни мешка, ни воровства, ни унижения, ни притворства, - а были бы только вот эта зелень луга, голубизна неба, солнце, сочная трава и луговой чеснок под ногами, шиповник в душистых розовых цветах.
Подошли к кустам краснотала. Дедушка достал из кармана складной нож. Нагибаясь, он срезал прутья, почти не глядя на них. Я следил за его руками, большими, костлявыми, и удивлялся тому, что они, словно зрячие, безошибочно выбирали в кустах прямые тонкие талинки. Нарезав два больших пучка, дедушка выпрямился.
- Ребята, подойдите ближе, - позвал он.
С полной готовностью понести любое наказание я подошел к дедушке и, опустив руки, прикусив нижнюю губу, смотрел на его брови снизу вверх.
Поднавознов остановился в двух шагах от старика, вынул свой нож и, усмехаясь, кривя губы, спросил:
- Тебе помочь, Еремей Николаевич?
Дедушка вытащил из кармана мешок и, встряхнув его перед глазами Микеши, спросил:
- Твой?
Микеша побледнел, и теперь чужой казалась улыбка на его губах.
Старик наотмашь ударил его хворостиной по спине.
Микеша упал на четвереньки, карабкаясь на песчаный взлобок. Дед взял его за шею двумя пальцами, как берут котят. Я зажмурился. Я слышал ноющий свист хворостин, дурной рев Микеши. Два обжигающих удара по спине заставили меня подпрыгнуть. Потом все затихло, и я открыл глаза.
Дедушка сидел на берегу, опустив голову, легкий ветер колыхал его волосы. Нахмурив брови, дед сказал:
- Я вас образую, шалопаи! Цацкаются с вами. Андрюшка, какой ты, к черту, парень, если не заехал ему в рыло? На тюремные дела толкает он тебя, а ты идешь овца овцой.
Дедушка взял пучки хвороста, спрятал мешок в карман своих холщовых штанов и пошел домой, ни разу не оглянувшись.
- Вовек не прощу я ему и тебе, - сказал Поднавознов.
Я шагнул к нему и ударил его в лицо. Он удивленно посмотрел на меня, сплевывая розовую слюну.
- Эх, Андрюшка, стукну я тебя разок кастетом, и склеенная башка твоя разлетится, как горшок, - сказал Микеша уже без прежней уверенности.
Утром мы с дедушкой, положив на рыдван борону, лагун с водой, поехали сеять. Бабка поставила в пшеницу горшок кислого молока. Гладкий перелинявший Старшина понесся рысью по ровной степной дороге.
Встречались крестьяне и, сняв шапку, спрашивали:
- С помощником едешь?
- Да, не видя подрос!
Остановились у межевого столба, на котором белел лошадиный череп. Дед запряг Старшину в борону, насыпал полную кошелку пшеницы, повесил через плечо ремень и пошел по полю, разбрасывая зерна. Когда он обошел два круга, я сел верхом на лошадь и поехал по пашне.
Так я ездил до обеда, три раза по одному следу.
День был теплый, тпхпй. Я слушал пение жаворонка нал голым полем, старую дедушкину песню, которую он тянул тонким голосом:
По увалам, по долпнушке
Сеял хлебушко Илья Муромец.
Крепко пахло черноземом, конским потом, ремнями.
С какой радостью после работы я садился на землю перед котлом, ел сливную кашу, немного пригоревшую, пахнувшую дымком. На вечерней заре ложился спать, накрывшись до подбородка жестким зипуном. Меркло над степью небо, прохладный чистый воздух овевал лицо. Засыпал я быстро, едва поймав взглядом звезду.
Теплым полднем в субботу возвращались домой.
Лошадь легко бежала по накатанной, слегка пылившей дороге. За неделю пыль забила дедушке бороду, уши, изрезанную морщинами шею. Передав мне вожжи, оп развалился на соломе и довольно пел про овечушек-косматушек.
Из-за горы блеснула мутная убывающая река с жидкой зеленью леса по берегам. На огороде дымилась баня, пахло березовым веником. Мама, улыбаясь, торопливо открыла ворота. Я сам въехал во двор, не задев осью стояков.
- Кормилец ты мой, какой ловкий! - воскликнула бабушка.
Я сам выпряг Старшину, сам влез с телеги на него верхом и отвел пастись на выгон, спутав передние ноги.
Вместе с натосковавшейся по дому собакой обежал все свои владения и всюду увидел большие перемены, свершившиеся за время полевых работ. На огородах чернели взрытые грядки, в старом бурьяне лопушился репейник, в стебель пошел чернобыл, пустующий соседский двор завеленел подорожником, улицы просохли. Старики, привязав чилижные веники к палкам, отметали сор от домов.
У нас на кухне за печью наседка вывела цыплят в старой дедушкиной шапке. Мать, подвязав передник, остригла наголо овечьими ножницами Тпмку. Хотела и меня, но я сходил к соседу. Тот за два яйца, выпрошенных мною у матери, из кудрей моих выкроил форсистый чубчик.
- С бабами в баню не пойду, - сказал я матери, - чай, большой.
Мать посмотрела на меня и вполне серьезно согласилась со мной.
- И то большой, - и подала мне прокатанное рубелем льняное белье, как всегда подавала отцу.
В бане я забрался на полок, парился, потом, охая, выбежал в предбанник и упал ничком, ловя ртом воздушную струю: вел себя, как подобает большому.
Сумерками на берегу реки бабушка наварила пз пресного пшеничного теста тонкие, как лпст бумаги, сочни.
Я выстругал из хвороста вилки, и мы уселись вокруг деревянной миски. То там, то тут по всему берегу зацвели огоньки, у которых ужинали приехавшие пз степи ЛЮДЕ, А после ужина, надев ботинки и пиджак, я пошел к скамейке под окном, лузгая семечки. Лицо, грудь и ноги горели, как это бывает после бани, сытого ужина и роботы.
В избе у раскрытого окна, низко спустив на проволоке лампу, мама шила мне кепку. Была она мастерица на все руки, и стоило ей увидеть вещь нового покроя, будь это платье, френч или галифе, она тут же бралась за пошивку, и все выходило у нее ловко, крепко и красиво. И мне радостно было слышать лязг ножниц, шорох протягиваемой через сукно нитки, вздох или возглас матери. А через улицу у дома тихо разговаривали мужики о войне, о посеве, о предстоящем ремонте мельницы.