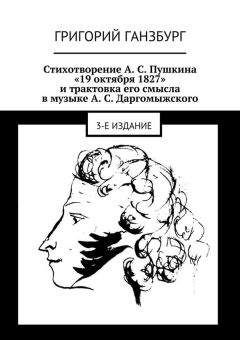Григорий Коновалов - Вчера
Теперь, гляля на звезды, вспоминается еще что-то более далекое. Давным-давно вплел я эти звезды. Белл, нэдяр?м же рассказывала мама, что родился я в степи ночью. Наверно, вот так же светили звезды, а за крестцами снопов выли волки. Иаверпое, тогда и заглянули в ыаза мои эти звезды. Засыпаю я под обрывочный говор косарей, под тихни звон обмываемого матерью котла, под едва уловимый далекий волчий вой. Звезда упала на ресницы, и я очутился в каком-то светлом саду.
Счастливая сенокосная пора! Хорошее время, когда кажется, что тебя все любят, потому что ты никому еще не надоел ни расспросами, ни поучениями, когда самый большой проступок твои против общества заключался в том, что ты, оставив в траве годовалого братишку "орать до пузырей", залез в енговатовский огород.
С нетерпением ждал я того момента, когда дедушка поведет на водопой к роднику Старшину, сидя на нем както боком. Я бросался за дедом, хватаясь за его пятку. Он нагибался с коня, брал меня и сажал впереди себя. Мне хотелось галопом скакать с горы, но дед вырывал из моих рук поводья. Зато на обратном пути я ехал один, а дед, зачерпнув ведром воду, шел позади. Необыкновенное чувство рождалось в груди моей, когда я ощущал ногами напрягающиеся мускулы лошади: большим и сильным казался я сам себе. А как увижу белую палатку, маму, так к хочется промчаться на копе, как на крыльях. Но Старшина лучше меня знает, что нужно делать: несмотря нд то что я бью его пятками по бокам, дергаю за поводья, оп только притворяется, будто хочет бежать, на самом же деле семенит своими кривыми избитыми ногами.
Сенокос подходил к концу. Очевидно, вырос я за две недели, потому что дедушка доверил мне одному поехать на водопой. Я подвел Старшину к рыдвану, сел на его острую, как ребро ладони, спину. Мне казалось, что я еду не к роднику, а в какой-то неведомый край с необыкновенно важным поручением. Когда я проехал могилу пастухов, путь мой преградила рессорная пролетка, запряженная парой белых лошадей. В пролетке сиделп Василии Догони Ветер и красивая смуглая девочка. Она держала над своей черной кудрявой головой розовый зонтик. То была, несомненно, она, Надька, по теперь бы я не мог назвать ее так, потому что в ее волосах не было голубенькой ленточки и она смотрела на меня, как поргапстып теленок на котенка: с величественным добродушием.
- Дядя Вася, - сказал я, чтобы обратить ее внимание на меня.
Василий остановил лошадей, легко соскочил с пролетки и, порывшись в кармане, дал мне пятак.
- Какой ты большой, крестничек, - сказал он.
Я смотрел на девочку, она тоже смотрела на меня.
- Почему у мальчика волосы как солома? - спросила она Василия. - Он кто?
- Андрюшка он, понимаешь, просто Андрюшка.
Пролетка скрылась за холмом. Я подъехал к роднику.
Ключи били из-под песчаного камня, образуя ступенчатый каскад, переходящий в небольшое озерцо. Пока Старшина, раскинув передние ноги, пил, я смотрел на наше с ним отражение. П вдруг я услышал тяжелый гул, казалось, шедший откуда-то пз глубины земли. Старшина поднял голову, навострил уши. Вдруг в зеркальном отражении, кроме нас со Старшиной, появилась на вершине горы лошадь, потом другая, третья. Можно было подумать, что кони выплывают откуда-то из глубины родниковых вол.
Раздалось громкое ржание. С гор в пыли мчался темной тучей огромный табун лошадей. Впереди, пригибая голову, бежал жеребец. Лавина катилась на иас. Старшина проворно вытащил ноги из грязи, засеменил к табору. Я слышал позади себя стонущую под ударами копыт землю.
От табора, размахивая горящей головней, бежал ко мне дедушка. Я вцепился в гриву Старшины. Налетевшие лошади грудью сшибли Старшину, и оп упал на колени.
Я полетел через его голову. Последнее, что я запомнил, была удушливая пыль, забившая мой рот, удары надо мной тяжелых копыт и ржание... Потом видел одним глазом грудь дедушки, залитую кровью: старик нес меня на руках. Потом опять темное забытье. Кто-то очень долго стучал не то молотком, не то камнем по моему затылку.
Когда я пришел в себя, меня отвезли в татарское селение Гумерово, к старому хромому лекарю Усману. Он долго лечил меня травами, кумысом и медом. После молотьбы приехал за мной дедушка. Он отвязал от телеги бычка-годовичка, снял с его коротких рогов налыгу, и бычок ушел под плоскую крышу Усманова сарая. В ответ на это Усман поставил в телегу деда туесок меда.
- Хорош малай, - говорил Усман, ощупывая мою голову. - Теперь долго жить будет, потому что табун лошадей по нему пробежал. Я башку починил, ноги починил.
Мал-мал хромать будет. Как я. На войну не возьмут.
Я никогда не забуду прохладного сумрака в глиняной сакле Усмана, мягкие кошмы, ласковую заботу старика и его жены, называвших меня по-татарски Энвером, и еще никогда не забуду предсказаний Усмана насчет того, что меня не возьмут на войну, - вся моя жизнь была войной.
4
Микеша Поднавознов был старше меня на три года, но учились мы с ним в одном классе, потому что Микеша третью зиму не расставался с букварем. Он хорошо знал закон божий, боялся Илью-пророка. Частенько вместо того чтобы идти на уроки, Микеша зарывался в солому на гумне, спал, пока не окончатся занятия в школе, а потом, стряхивая мякину со своей косматой головы, присоединялся к ученикам.
- Ну, у кого что пожрать осталось? - спрашивал Микеша. - Выворачивай сумки!
Одноклассники боялись его, отдавая свои завтраки, которыми он кормил черную кривую собаку Терзая.
- Андрюшка, не водись с Микешкои, не человек он, а петля. Непутевый, говорила бабушка.
- А в кого ему быть путевым? - спрашивал дедушка. - Чай, знаешь, какие отец с матерью: картежники, трубокуры, выпивохи. Запьянцовские люди. Кто чего украл - им несут. Спрячут, продадут - и концы в воду.
Однажды в воскресенье утром я пришел к Подпавозновым и застал их в великом горе. На глиняном полу разостлана коровья шкура, бурая шерсть ее полосато вычернена сажей. Вся семья сидела вокруг шкуры, плакала.
Только сам дядя Никанор Поднавознов в ватной куртке, в узких самотканых штанах стоял у стены, расставив длинные, как жерди, ноги, и пел с пьяной хрипотцой:
Мать сыночку говорила:
Не водись с ворами,
А то в каторгу пойдешь,
Скуют кандалами.
- Перестань выть, жердяй несчастный! - закричала тетя Катя. Поплевывая на шкуру, стирая передником пятна сажи, она запричитала: - Кормилица наша, Буренушка! Сгубил тебя долгоногий дурак!
Никанор налил в кружку самогонки, по выпить не успел: старший сын, глухонемой Санька, вырвал из его рук кружку.
Мне очень нравился этот парень. Он один кормил семью Поднавозновых: делал ведра, лампы, паял, слесарил, клал печки. Родители его стыдились.
- Ну, ну, Саня, не бунтуй, - сказал Никанор и снова налил самогонки, и они вместе с женой выпили. Он обнял ее и запел: