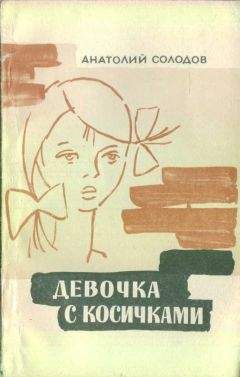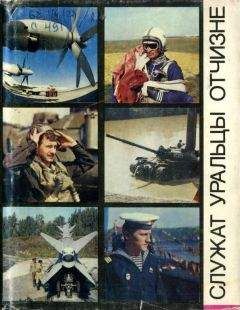Эммануил Фейгин - Здравствуй, Чапичев!
Я не на шутку встревожился за судьбу курчавого паренька из парикмахерской Ветросова. Но когда во время занятий попытался завести разговор о Тимке-конокраде, Яша сразу ощетинился, точно ежик.
— Не лезь в чужие дела, — отрезал он. — Хочу с тобой дружу, хочу — с Тимкой. Я сам себе хозяин… Да и что ты знаешь о Тимке, чего взъелся на него? Такого друга, может, на всей земле нет, а ты говоришь…
— Смотри, Яша, сам понимать должен — на плохую дорогу попадешь, не выберешься.
— А Тимка при чем? Он мне не нянька, и я уже не маленький.
— С кем поведешься, от того наберешься.
— Послушай, почему ты такой скучный? — неожиданно спросил Яша.
— Я!.. Скучный?
— Еще какой скучный, И глаза у тебя, как у мертвяка: посмотришь — плакать хочется.
Я погрозил ему кулаком:
— Издеваешься?!.
— Да что ты… Это я за тебя беспокоюсь. Может, ты заболел? Голова болит? Живот? Скарлатина у тебя была? А коклюш? Скверная это штука коклюш. У меня был он еще в Париже. Один раз я так зашелся, даже посинел…
— Отстань от меня, чего пристал! — огрызнулся я.
— Чего же «отстань», — с наигранной наивностью продолжал Яша. — Я же только спрашиваю, а ты не отвечаешь.
И так бывало не раз. Я только заикнусь о Тимке, а Яша заведет какую-нибудь нудную канитель на полчаса, не обрадуешься. Здорово он наловчился изводить меня. Придумает про меня всякую ерунду и давай наворачивать с наивным, глуповатым выражением на лице. А заглянешь ему в глаза — они у него с лукавинкой, с хитринкой, чертовски умные и проницательные. Так он защищал своего дружка Тимку-конокрада от моих наскоков. Но я тоже был упрям и настойчиво гнул свою линию. Как-то во время урока я заметил, что Яша нетерпеливо поглядывает в окно, за которым уже сгущались сумерки.
— Ты куда-нибудь должен идти? — спросил я.
— На вокзал мне нужно сбегать.
— Тимка ждет?
— Да, я обещал ему обязательно прийти.
— Ну что вы каждый вечер околачиваетесь на вокзале? Что вы там потеряли?
— Что потеряли, то и найдем.
Крепкий орешек! Ну что с ним делать? А если…
Яша уже довольно бегло читал по-печатному. «Попробую пристрастить его к чтению книг, — решил я. — Тогда у него будет меньше времени для встреч с Тимкой».
— Пойдем в библиотеку, — предложил я. — Посмотрим журналы с картинками: «Огонек», «Прожектор», «Резец». А захочешь, я тебе книгу подберу. Приключенческую, Про разбойников и про пиратов.
Яша наотрез отказался!
— Не… Сегодня не могу. Я обещался Тимке. А завтра, может, пойдем.
Но и назавтра он не сразу согласился пойти в библиотеку.
— Скучно там. Я в окно видел. Сидят все надутые, как сычи. Ни на кого не смотрят — только в газеты. Что я там делать буду? Я ведь веселый. Начну шуметь, а меня выгонят.
— А мы там сидеть не будем, — обещал я.
— Возьмем книги — и домой.
— И мне дадут книгу?
— А как же.
Он вздохнул и нехотя поплелся за мной. Я записал его в библиотеку.
— Сейчас подберу тебе хорошую книгу.
— Не… Я сам.
— Сам так сам, выбирай…
Я думал, что он начнет рассматривать книги с яркими, многокрасочными картинками. Но он не обратил на них никакого внимания. Зато книгу избранных рассказов и повестей Льва Николаевича Толстого долго вертел в руках, листал и даже зачем-то обнюхал ее переплет. То же самое он проделал и с другой книгой — рассказами А. П. Чехова. А затем неожиданно для меня выбрал тоненькую книжечку в серой, неказистой обложке.
— Вот эту возьму.
Это был «Левша» Лескова.
— Пожалуй, трудновато для тебя, — сказал я. — Видишь, буковки какие мелкие.
— А я не слепой. Интересно мне. Книжка про левшу, а я сам левша…
Прочитав первую книгу, Яша прибежал ко мне весь какой-то сияющий.
— Я думал, раз я левша, то только в разбойники гожусь. А в книжке левша — настоящий парень, мастер. Здорово он блоху подковал. — Вздохнув, Яша добавил: — Мне бы такие руки…
Я обрадовался: это была моя победа! Она нелегко мне далась. Были синяки и царапины на лице, всякое было, пока Яша прочитал свою первую книгу.
— Научишься — станешь мастером, — сказал я. — У нас в мастерских есть такой слесарь Семериков, может, знаешь? С длиннющей бородой ходит. Вот его так и называют у нас: «Дядя Миша — золотые руки».
— «Золотые руки», — задумчиво проговорил Яша. — А Ветрос все ругается. У тебя, говорит, Яшка, руки глиняные.
— За что он тебя так?
— Чашку я его любимую разбил. Он мне кричит: «Мальчик, чаю!» По двадцать чашек чая в день жрет, проклятый, и не лопнет. Ну, я налил чай, несу, а чашка вдруг хлоп на пол, и вдребезги.
— Надо осторожнее, — посоветовал я. — Чашки бить не следует.
— Так я же не нарочно. У меня правая рука, видишь, не такая… Неловкая она у меня.
— А ты левой.
— Нельзя. Узнает Ветрос, что я левша, сразу выгонит.
— Ну да, так и выгонит.
— Без разговора выгонит. Нельзя левше парикмахером быть. Сам подумай. Увидит клиент, что я бритву в левой руке держу. «Караул, — заорет, — режут», — и давай бог ноги.
— Плохи твои дела, Яша, — посочувствовал я. — Раз такое дело, надо тебе поскорее уходить от Ветросова.
— А куда? Ты как-нибудь на биржу зайди. Там таких, как я, не сосчитать.
Я ничего не мог возразить Яше — он говорил правду. В то время у нас в Джанкое много было безработных, особенно среди молодежи и подростков. Я почти каждое утро видел длинные очереди у здания биржи труда.
— Все же надо что-то придумать, — неуверенно сказал я. — Ты думай, и я буду думать…
— А я уже думаю… Мы с Тимкой все время об этом думаем.
Опять этот Тимка! Я даже выругался про себя от злости. Как мне их разлучить? Но жизнь разлучила их без моего вмешательства. И главное, совсем не так повлияла на Яшу дружба с Тимкой, как я думал. Не зная Тимку, я предполагал самое худшее, опасался, что он увлечет Яшу на дурную дорожку. А вышло все по-иному.
Осенью начался очередной призыв в Красную Армию. Обширная площадь перед райвоенкоматом, на которой в обычные дни мирно паслись козы горожан, сразу превратилась в самый оживленный и шумный центр джанкойской жизни. Здесь теперь с утра и до вечера, вытаптывая пожухлую траву и пыльные лопухи, толпился народ: призывники, их родичи, дружки, подружки и, конечно, просто любопытные и зеваки, к которым я присоединялся с большой охотой, как только мне это удавалось.
На площадь перекочевал и предприимчивый базарный люд: крикливые продавцы кваса и бузы; чебуречники, возле которых невозможно было стоять — таким жаром дышали их круглые, похожие на барабан переносные печи; папиросники и галантерейщики, торгующие вразнос с лотков. Тут же на мангалах поджаривались семечки и кедровые орехи — «копейка стакан». В огромном специальном самоваре варилась «пшенка» — опутанные нежной, блекло-золотистой паутинкой ядреные початки кукурузы. А веселая баба Дуня затейливо расхваливала бублики: «Навались, публика, на горячие бублики, кто купит, тому с маком, кто не купит, тому с таком». В толпе шныряли базарные шинкари — неимоверно толстая, краснорожая Жандармиха и, похожая в своем грязном рванье на нищенку, седая и беззубая старуха Пасько. Они торговали «своим товаром» в буквальном смысле слова из-под полы, то и дело боязливо оглядывались, зная, что у милиционера дяди Васи удивительный нюх на спиртное. Поведет он из стороны в сторону маленьким облупленным носом, чихнет, и хоть глаза ему завяжи, ни на шаг не уклоняясь, пойдет к цели, то есть к бутылям с мутной самогонкой. Ни слова не говоря, легонько стукнет рукояткой старенького тульского нагана по донышку бутыли и, презрительно сплюнув в вонючую лужицу, тихо, не повышая голоса, скажет: «Земля дала — земля взяла». Шинкарки обычно поднимали крик, рыдали над погибшим «товаром» и, не утирая слез — день торговый, время — деньги, — бежали домой за новыми бутылями.