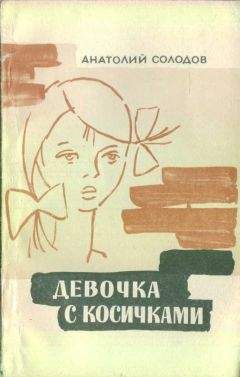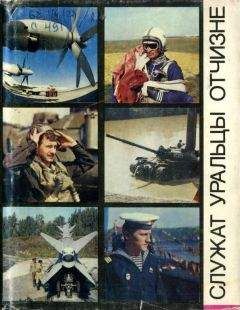Эммануил Фейгин - Здравствуй, Чапичев!
— Ты чего? — спросил я.
— Смешно. Ты заметил, как эта женщина смотрела на Луговского? Особенно, когда он по телефону говорил. Испугалась, вероятно, что добычу у нее могут отнять. Я думал, вот-вот она бросится на него. А коготки у нее острые, заметил? Вот только не пойму, для чего ей это нужно? Поиграть или слопать?
— Луговского не слопает, подавится.
— Ты так думаешь? — усомнился Яков. — Кто ее знает. У таких все от аппетита и настроения зависит.
— Не надо, Яков, нехорошо, что мы так говорим об этой женщине. Ты же слышал, Луговской ее своей подругой назвал.
— Нет, брат, она ему не подруга, — возразил Яков. — Может, жена, не знаю, только не подруга. Подруга поэта, это, брат, совсем иное. Хочешь, я тебе скажу, какой она должна быть?
…Много лет спустя, уже после войны, я увидел рядом с Луговским его жену и подругу и был потрясен ее удивительным сходством с тем портретом, который нарисовал после визита к Луговскому Яков. Наверное, когда Чапичев говорил о том, какой хотелось ему видеть жену и подругу Луговского, думал и о своей подруге…
Разговаривая, мы вышли почти на самую окраину Симферополя и остановились, когда уткнулись в ворота стадиона.
— Вот тебе на́! Это же «Синее поле», — удивился я.
— «Синее поле»? — повторил Яков. — Чудно как, а? Днем оно зеленое, ночью черное, а люди говорят — синее. Интересно, кто его так назвал?
— Это давнее название. А кто назвал, не знаю.
— Это был, конечно, поэт.
— Не знаю, может, и поэт.
— Определенно поэт. Вот Луговской мог бы так сказать, а я нет. И жаловаться на это некому.
Мы углубились в темные, затененные липами улицы нового города. Какой-то одинокий прохожий увидел нас и ускорил шаги.
— Боится, что ограбим, — сказал Яков. — Напрасно боится, его я не трону, а тебя, пожалуй, ограблю. Деньги у тебя есть?
— Вчера получил гонорар.
— Славно. Значит так: кошелек или жизнь!
Я рассмеялся и достал бумажник.
— Дели на три части: две мне, одну тебе. Потом верну, без процентов, конечно.
— Для чего тебе?
— Еду в Москву. Не могу я больше так. Я должен вернуться в партию, должен вернуться в армию, понимаешь? Иначе мне не жить. Вот Луговской говорил о нашем героическом поколении. Это верно, поколение героическое. А я? Струсил я… Надо было драться. А я спрятался за свое «чистим-блистим». Тоже мне герой! Но хватит. Буду драться. Все сделаю, а вернусь в строй.
— Слава богу, — сказал я. — Рад, что ты наконец понял.
— Понял, еще как понял. А теперь шагай домой. Мне надо еще зайти к родителям Христика. Я утром уеду первым поездом.
…Мы не виделись с Чапичевым после этого больше года. Но вот как-то вечером, когда в городе только что был дан отбой учебной воздушной тревоги, я вдруг услышал на улице, возле окна, звон шпор. Это было странно! Только что зловеще надрывались сирены. Воздушная тревога. Двадцатый век. И вдруг шпоры. Было чему удивляться. Я быстро распахнул окно. На тротуаре стоял Яков Чапичев.
— Яша, откуда?
— В командировке. Через два часа уезжаю. Вот стою и размышляю, куда тебе стучать.
— Заходи, сейчас открою.
— Жена спит?
— Да.
— Тогда не открывай. Я в окно. — Он подтянулся на руках и, усевшись на подоконнике, сразу же снял щегольские сапоги со шпорами. — Слышал звон?
— Слышал.
— А шпоры «видишь?
— Вижу.
— Смешно?
— Нет, не смешно, но, кажется, они ни к чему.
— Это верно, ни к чему. Переходим на мехтягу. А шпоры все равно носим — последняя причуда артиллеристов. Атавизм, конечно, но я люблю шпоры…
Яков спрыгнул с подоконника, прошелся в одних носках по комнате.
— Ну как, по-твоему, я выгляжу?
— Великолепно, — сказал я и не солгал. Ему очень шла военная форма — новенькая, с иголочки. В петлицах парадной коверкотовой гимнастерки алели кубики.
— Поздравляю, — сказал я. — Значит, политработник?
— Да, младший политрук, — сказал Яков и достал из нагрудного кармана красную книжечку. — А вот партбилет!
Я обнял друга.
— Рад за тебя, Яков.
— Знаю, что рад. Теперь у меня все в порядке, я в строю. А еще говорят, что Москва слезам не верит.
— Неужели плакал? Не может быть.
— Плакал. Вот такими слезами… Хочешь верь, хочешь нет. Не в ЦК и не в Наркомате, конечно. Там я держался. Кажется, молодцом держался. Мне даже один ответственный товарищ сказал: «А ты крепкий парень, Чапичев. Кремень. Из такого слезу не вышибешь». И все-таки вышибло из меня слезу. Ты ведь помнишь, с чем я в Москву поехал. На дорогу подсобрал — вот и вся моя казна. Приехал, осмотрелся и понял, дело долгое. Надо ждать и терпеть. А как ждать? Есть что-то надо. Ну голод не тетка, живот подожмет, сразу сообразительным станешь. Нашел я себе работенку, не постоянную, конечно: я же без прописки. Но на каждой железнодорожной станции бывают такие срочные погрузки и выгрузки, когда не смотрят, прописан ты или не прописан, лишь бы работал. Ну я и пристроился. На хлеб с квасом деньги появились, а вот с жильем беда. Ночевал я сначала на Курском вокзале. Только пригляделись ко мне быстро и начали гонять. Я на Белорусский. И там пригляделись: я ведь приметный, черный как жук, в толпе не затеряюсь. Гоняют меня, словно зайца. И контролеры всякие, и стрелки, и милиционеры… Спасу нет, как гоняют. И что же ты думаешь, среди этих контролеров-гонителей нашелся мой спаситель. Ворчливый такой старичок. На всех сердится, ко всем цепляется. Все ему кажется, что пассажиры лишь тем и заняты, что нарушают вокзальные порядки. И на меня наорал сначала. И вдруг говорит: «А ты парень, вроде на шпану не похож. Видать, в беду попал?» Не люблю я рассказывать встречным-поперечным о себе, а тут, сам не знаю почему, все рассказал. Выслушал он меня и наказ дал: «Жди. Сменюсь, пойдешь со мной». В дороге представился: «Савельев Сидор Николаевич. Вдов, живу один, дочь с мужем и внуком в Кузбассе». Комнатушка у него оказалась маленькая, метров девять, но порядок и чистота прямо отменные. «Живи тут, — сказал Сидор Николаевич и вдруг закричал, как на вокзале: — Но чтобы мне полный порядок был. Не курить! Не сорить! Пьяным не приходить! А если выпить захочется, только со мной и только по выходным». Живу я у Сидора Николаевича месяц, второй, а делу моему еще и начала нет. Мне к большому начальству нужно, а к нему никак не попадешь. Каждый день хожу, и все понапрасну. А у меня такой порядок завелся: докладываю Сидору Николаевичу, как день закончился, где что продвинулось, где задвинулось. Он посочувствует. Молча посочувствует, а мне уже легче.
По выходным мы с ним сначала ходили в баньку, затем покупали поллитровку, соображали картошку «в мундире», селедку, ну, рацион в общем известный. Выпьем, бывало, понемножку, закусываем. Я ему о себе кое-что рассказываю, а он мне о гражданской войне. В гражданскую он на бронепоезде воевал, повидал всякое. Интересный старик, тебе бы с ним познакомиться. И вот как-то сидим мы так в выходной. Все идет своим чередом, чин чином. И вдруг он меня спрашивает: «Как ты думаешь, Яков, Гитлер на нас войной пойдет?» — «Пойдет». — «Скоро?» — «Думаю, что скоро». И тут он, понимаешь, заплакал. Может, конечно, и водочка в этом виновата, и старость… Только вижу, плачет мой Сидор Николаевич, горько плачет, с обидой. «Что ж это такое, — говорит, — война на носу, а таких бойцов, как ты, из армии гонят. Старых, заслуженных командиров в тюрьму сажают. Кто же будет Советскую власть защищать?» Он плачет, и у меня слезы из глаз. Хочу сдержаться и не могу.