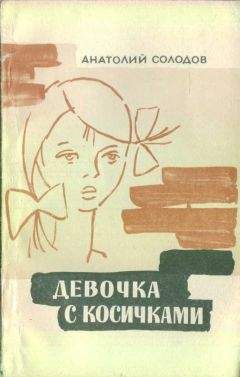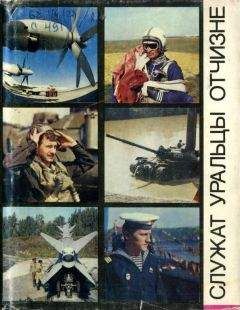Эммануил Фейгин - Здравствуй, Чапичев!
Болтая черт знает что, Яков набросился на мои действительно запущенные ботинки. Я чувствовал себя неловко, и Яков это заметил.
— Что ты морщишься?
— Нехорошо как-то, что ты мне ботинки чистишь.
— Глупости. Ты на меня работаешь, я на тебя. А как же иначе? Справедливо. Справедливее быть не может. Ты что думаешь, при коммунизме чистильщиков не будет?
— Не знаю.
— А я знаю. Будут. Может, не такие, как сейчас, не со щетками в руках, но будут, обязательно будут. А симферопольцы, как только разбогатеют, обязательно поставят памятник чистильщику. В знак признательности и уважения.
— И тебя возьмут за образец.
— Может, и меня. Фигура у меня ничего, как будто подходящая.
— Да, красив, как молодой бог.
— Вы мне льстите, уважаемый клиент. Я сегодня одному человеку туфли чистил, вот он действительно похож на бога. До чего же красивый человек.
— Кто такой?
— Не знаю. Будто видел его где-то, но вспомнить не мог. Наверняка писатель или артист. Голос у него, как у Шаляпина.
— Он тебе пел, что ли?
— Да нет, сказал: «Благодарю» — и еще добавил, что нигде ему так не чистили башмаки. Но сказал это так, словно арию о любви пропел.
«Кажется, это Луговской», — подумал я. Несколько дней назад я видел Владимира Александровича в ялтинском Доме творчества, и он, между прочим, сказал, что собирается в Симферополь.
— Он в брюках гольф? — спросил я.
— Да.
— Это Луговской.
Яков хлопнул себя ладонью по лбу.
— Балда! Как же я не догадался?! Я же всегда представлял Луговского именно таким — большим, красивым, могучим.
Яков вскочил и, забыв о моих недочищенных ботинках, бросился в вестибюль гостиницы. Сквозь стеклянную дверь я видел, как он подбежал к окошечку администратора. Вернувшись, радостно сообщил:
— Он. В двести четвертом номере. Давай ногу, я дочищу тебе ботинки.
— Я уже сам закончил.
— Вот и хорошо. На этом кончаем базар.
В очереди зашумели.
— Спокойствие, граждане, — громко оказал Яков. — Вы что же думаете, у некооперированных кустарей нет охраны труда? Ошибаетесь. Но я вас так не оставлю, товарищи. Вон там за углом работает мой коллега. Там нет никакой очереди, так что он быстро вас обслужит.
Уговаривая не очень сговорчивых клиентов, Яков поспешно, несколько небрежно прибрал свое рабочее место. Потом сказал:
— Вот и все. Пошли к Луговскому.
— У нас же билеты на концерт, — напомнил я.
— А я надеялся, что хоть ты-то меня понимаешь, — с укором сказал Яков.
И я понял его. Конечно, ему надо встретиться с Луговским. В ту пору Яков много писал. Почти каждый день он читал мне новые стихи: короткие баллады о гражданской войне, героями которых были Чапаев, Щорс, Пархоменко, Лазо, Руднев, стихи о друзьях-артиллеристах, от которых его так обидно оторвали.
Прежде чем подняться на второй этаж гостиницы к Луговскому, Яков затащил меня в туалетную комнату и минут десять тщательно мыл руки, стараясь смыть следы гуталина. Затем, смочив водой волосы, он попытался причесать их и только махнул рукой.
— Опускаться стал, — с грустной усмешкой сказал он. — В армии я всегда коротко стригся, а сейчас закурчавился, как беспризорный.
У двери двести четвертого номера мы как-то невольно задержались.
— Неудобно все-таки, непрошеные гости, — сказал я Чапичеву.
— А что тут неудобного? Неудобно только левой ногой правое ухо чесать. А мы войдем и скажем: «Итак, начинается песня о ветре». Он сразу поймет, что к чему.
Но как ни храбрился Яков, когда мы вошли в номер, он как-то сразу оробел и притих. Может, его смутило, что Луговской был не один. В глубине комнаты у окна стояла женщина.
— Моя подруга, — представил ее Луговской. Женщина молча кивнула головой. За весь вечер она не промолвила ни слова. Она либо стояла у окна и глядела на улицу, либо неслышно ходила по комнате с вытянутыми вдоль туловища тонкими обнаженными руками, либо, присев к столу, подолгу смотрела на Луговского зелеными глазами. Наш приход явно огорчил женщину. А поскольку мы засиделись, то она не в силах была скрыть свое недружелюбие. Зато Луговской принял нас очень радушно.
— Вы прозаик? — спросил он у Чапичева.
— Я чистильщик, — ответил тот.
— Я не об этом. Вы прозу или стихи пишете?
— Пробовал писать стихи.
— Прочитайте.
— Сначала вы. Мы затем и пришли.
— Охотно. У меня чудесное настроение, я готов день и ночь читать стихи, были бы только желающие слушать.
Владимир Александрович прочитал много стихов — новых и старых, в их числе, по просьбе Якова, «Перекоп» и «Песню о ветре».
Мне было интересно наблюдать, как слушал стихи Луговского Чапичев. Он будто вдыхал их. Жадно вдыхал, всей грудью, всем существом, словно до этого долго жил на голодном кислородном пайке… А женщина, пока Луговской читал свои стихи, стояла у окна, безразличная, словно изваяние. Я с неприязнью подумал: «Язва. Спиной слушает. Равнодушна и зла».
— Теперь вы читайте, — сказал Луговской Чапичеву.
— Что вы? Какие там у меня стихи? Разве можно читать их после ваших…
— Нехорошо, у поэтов так не принято, — пожурил, улыбаясь, Луговской.
— Я потом прочитаю, — обещал Яков. И неожиданно спросил: — Владимир Александрович, а вы Ленина видели своими глазами?
— Видел.
— Завидую. Этого вам на всю жизнь хватит.
— Да, на всю жизнь, — согласился Луговской.
Не знаю точно, когда, но, кажется, вскоре после этой нашей встречи Луговской написал:
Огни в порту.
Дай руку мне.
За нами
Дозорный катер
мчит,
Лучом скользя.
И Ленин смотрит
вечными глазами
В такую даль,
Что и сказать нельзя.
Эти вечные глаза Ленина, устремленные в грядущее, были для Луговского, как он сам не раз говорил, символом жизни и победы всего вашего народа, всего, что есть лучшего и достойного в человечестве.
На столике в углу зазвонил телефон, резко, прерывисто — междугородный вызов.
— Извините, — сказал Луговской. — Это, наверное, Москва.
Он снял трубку, подышал в микрофон, и вдруг его темно-бронзовое от загара лицо посветлело.
— Мама?
Большой и мужественный, Владимир Александрович так произнес это слово, что мы с Яковом переглянулись с улыбкой. Так, улыбаясь, мы прослушали весь телефонный разговор. Да и нельзя было его слушать по-иному. Человек словно из металла отлит, и звучать ему, кажется, только громким колоколом, все басом и басом. Но, видно, металл, из которого отливают колокола, годен и на тонкие, нежные струны.