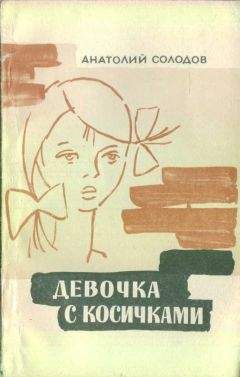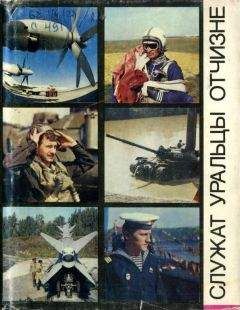Эммануил Фейгин - Здравствуй, Чапичев!
Он больше ничего ему не сказал. Даже другу он не мог сказать больше, потому что и не знал, что сказать, сам не знал. Но и это так страшно испугало приятеля, что он вскрикнул: «Молчи, ради бога, молчи. Как ты можешь? Как смеешь?..»
С первым утренним поездом Яков должен был ехать в командировку на станцию Сейтлер, где красноармейцы его батареи грузили сено для полка. Яков бесшумно оделся и, стараясь не разбудить жену, прикоснулся губами к ее щеке.
Из командировки Чапичев вернулся через неделю вечером. Дверь квартиры оказалась запертой. Яков подумал, что жена еще на службе, ее нередко задерживали на сверхурочной работе. Решил разыскать друга. «Он на партсобрании», — сказал дежурный. Яков удивился: «На партсобрании? Но он пока еще комсомолец». «Значит, пригласили, — сказал дежурный. — И ты давай иди в клуб, там сегодня персональные дела, с некоторых прохвостов шкуры снимают».
…Друг сидел в первом ряду. Яков сразу увидел его. Рядом с ним оказалось свободное место. Яков обрадовался. Но он так и не дошел до первого ряда. Он и шага не успел сделать, его остановил странный вопрос председателя:
— Кажется, Чапичев?
Все обернулись. Только друг не обернулся.
На этом собрании Якова обвинили в сочувствии к разоблаченному врагу. Обвинение было основано на словах, которые он сказал тогда другу. Только ему одному сказал. Никому больше. Но никто на собрании не назвал его имени. Было лишь сказано: «Как заявил один честный товарищ…»
Яков все время смотрел на друга, но видел только его слегка опущенные плечи и шею, обернутую, как у больного, шерстяным кашне, который он подарил ему в день рождения.
Яков все еще надеялся, что сейчас друг встанет и что-то скажет… Он ничего не сказал. И Яков тоже ничего не сказал. Ему предоставили слово, от него потребовали объяснения. Но что он мог объяснить? Его исключили из кандидатов партии как вражеского подпевалу. Единогласно исключили. Когда все было кончено, председатель сказал: «Можете идти, Чапичев, вы свободны». Яков почему-то переспросил: «Свободен?» — «Да, свободны, идите».
Он вышел в фойе, сел на скамью у входа в зал. Ему казалось, что вот сейчас откроется дверь, его снова позовут, скажут: «Входи, Яков, произошла ошибка». Никто его не позвал, и дверь открылась только тогда, когда кончилось собрание. Мимо Якова, не останавливаясь, прошли товарищи. Только командир батареи Колесников бросил на ходу, не глядя: «Апеллируй, Чапичев». И еще кто-то, Яков не заметил кто, сказал: «Плюнь ему в рожу».
Последним вышел из зала он. Яков поднялся и преградил ему дорогу. Он остановился, на мгновение прикрыл лицо рукой, наверное, решил, что Яков хочет ударить, а он лишь хотел увидеть его глаза. И увидел: беспощадные, как смертный приговор, ничем не замутненные глаза человека, уверенного в своей правоте. «Ты домой?» — спросил он. Яков не ответил. Он все еще смотрел в его глаза, хотя уже знал, что ничего другого в них не увидит. «Тогда я пойду», — сказал он.
В тот вечер Яков впервые заблудился в своем полку. У орудийного парка его чуть было не застрелил часовой. Яков не расслышал его команды: «Стой! Обойти влево!» И часовой, щелкнув затвором, закричал нервным голосом: «Стой, стрелять буду!» «А если не остановиться?» — подумал Яков. И все же подчинился приказу. Он не мог не подчиниться приказу. Это у него было уже в крови.
Яков направился к проходной. Там его остановили. «Ваш пропуск», — потребовал дежурный. У Якова никогда не требовали пропуска, его все знали в полку. «Ваш пропуск», — снова приказал дежурный и почему-то схватился за рукоять шашки. Яков протянул ему коричневую книжечку. «Проходите», — сказал дежурный и положил пропуск Якова себе в нагрудный карман. «Все, — понял Яков, — меня выгнали из полка».
Чапичев так никогда и не узнал подробностей возникновения «персонального дела». Да и не хотел знать. Для чего ему подробности? Для чего растравлять глубокую рану в сердце? Для него было ясно одно — он чист перед партией, перед людьми. Ему не в чем винить себя, не в чем раскаиваться…
Всю ночь после партийного собрания Яков провел на пороге своего дома. Сначала хотел пройти мимо, но увидел свет в окне. Во всем доме уже спали, а окно его комнаты светилось. Нет, уже не его комнаты.
«Бедная жена ждет меня, — подумал Яков. — Да, ждет. И меня, и особистов ожидает. Они, наверное, сказали, что придут за мной. Они придут, а меня не будет. Они подумают, что я сбежал. А я не враг, я не хочу бежать».
До рассвета просидел он, не смыкая глаз, в подъезде. Но за ним так и не пришли. И когда Яков уходил прочь от ставшего теперь ему чужим дома, в окне его комнаты все еще горел свет.
— Мне это было уже безразлично, — сказал Яков.
— А с ним не виделся после того?
— Нет, я больше его не видел. Да и не хочу видеть. Я считал его своим другом, верил ему, как самому себе, а он оказался подлецом…
«ИТАК, НАЧИНАЕТСЯ ПЕСНЯ О ВЕТРЕ…»
Воскресенье — горячий день для чистильщиков. По воскресеньям улицы Симферополя запружены толпами гуляющих, а для щеголя-южанина гуляние не гуляние, если обувь у него не в порядке. Пусть она даже будет в заплатах, чиненая-перечиненная, но если она кожаная, то должна сверкать, если с парусиновым верхом, должна быть белее снега. Словом, как говорят симферопольцы, шик-блеск.
Мы договорились с Яковом пойти на концерт московского джаза. Я пришел к гостинице за час до начала с билетами в кармане и увидел у чапичевского «заведения» очередь жаждущих блеска. «Пропали билеты», — с огорчением подумал я. Но Яков подмигнул мне: не беспокойся, мол. Он работал вдохновенно, как артист. Мелькали в воздухе щетки, плавные движения, барабанная дробь: «Пожалте, левую! Пожалте, правую!» На той же скорости веселый разговор, пересыпанный озорными шутками, хохмами, без которых южанину жизнь кажется пресной.
Такие веселые уличные интермедии входят в обязательный репертуар отдыхающего симферопольца, и плохо чистильщику, если он не остроумный человек. Он останется без работы, ему лучше сменить профессию. Иначе о нем будут говорить с презрением: «Покойничек… Пусть на покойничков наводит блеск».
Обслужив очередного клиента, Яков вдруг обратился ко мне:
— Прошу вас, садитесь, — и даже обмахнул кресло бархоткой. Я растерялся от такого неожиданного приглашения, а очередь бурно запротестовала.
— Напрасно волнуетесь, товарищи. С утра заказано, по телеграфу из Джанкоя. Вот, — Яков достал из кармана какую-то бумажку: «Запишите очередь тчк Буду экспрессом девятнадцать десять». Разве вы не видите, что у товарища на ботинках джанкойская грязь и пыль. А у него через пятнадцать минут важный доклад. Ногу, товарищ!