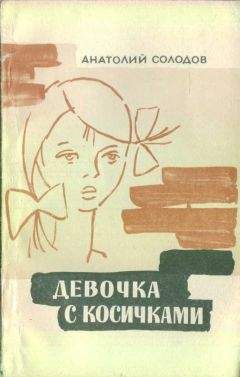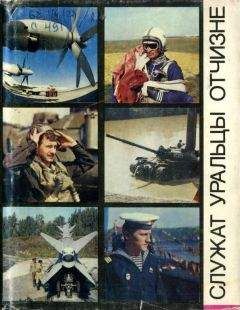Эммануил Фейгин - Здравствуй, Чапичев!
— Ясненько, — покорно подтвердил я.
— Нет, не ясненько, дорогой товарищ. Тут самое главное начинается. Тут у меня героиня, значит, комсомолка, красотка, бдительная, смелая. В самый последний момент она, значит, всю эту банду разоблачает. Ее, конечно, убивают насмерть.
— Кто убивает?
— Как кто? Вредители. Но тут им амба. Подоспели сотрудники НКВД, зажали их в ежовые рукавицы, и пожалуйте бриться, гады! Ну как, интересно?
— Интересно.
— Как видишь, умеем, дорогой товарищ. Но это еще не все. Я под самый занавес такую штучку придумал, ни в одной пьесе не найдешь. Уже публика хочет встать, думает, что спектакль окончен, и вдруг, значит, главный вредитель вырывается из рук сотрудников и бросается в зал.
— Зачем это?
— Для бдительности. Народ, значит, думает, что раз эту банду схватили, значит, с вредителями все покончено и можно почивать на лаврах. «Ан нет, заблуждаетесь, опасно заблуждаетесь», — мысленно говорю я зрителям и бросаю своего вредителя в зал, в публику. И тут, значит, мгновенно гаснет свет. В темноте тревожный голос ведущего: «Товарищ, внимание! Бдительность, бдительность, вредитель среди нас». Так же мгновенно зажигается свет, и все смотрят друг на друга, потому что предупреждены, вредитель среди них. Ясно тебе? Ну, как пьеса? Здорово крутанул, а?
— Да, здорово.
— Умеем, дорогой товарищ, умеем. Но, может, у тебя какие замечания есть? Так давай, крой, не стесняйся, я критику люблю.
— Да нет, я как-то не подумал еще. Вот разве название…
— А что название? — встревожился Сеня.
— Видишь ли, два ноля обычно пишут на уборных, могут возникнуть нежелательные ассоциации.
— Так то цифрами пишут два ноля, а у меня словами «Ноль-ноль». Какие же тут ассоциации?
Трамвай продолжал с грохотом и звоном мчаться по спящему Симферополю.
— Эй ты, потише, — крикнул Сеня вагоновожатому. — Ишь, как гонит, вредитель. — И вдруг повернулся ко мне: — Ты, кажется, с Чапичевым дружишь?
Мне это не понравилось. Слишком часто мне в ту пору по-недоброму задавали подобные вопросы.
— А что?
— Скажи ему, пусть бросит он свои штучки-мучки.
— Какие «штучки-мучки»?
— Его, понимаешь, из армии за что-то поперли. Не знаю, право, за что, я в военные дела не вмешиваюсь. А он, понимаешь, в ответ на это демонстрацию устроил: сидит у подъезда гостиницы и чистит ботинки! Безобразие!
— Почему же безобразие?
— Как будто не понимаешь. Поэт, стихи печатал, народ его знает, а он «чистим-блистим». За такое, сам понимаешь, по головке не погладят. Ты ему лучше скажи.
— Увижу, обязательно скажу.
— Правильно сделаешь. Ну, я пошел, моя остановка. — Он подхватил портфель и заторопился к выходу. — Пока. Еще встретимся.
К счастью, я больше не встречал Сеню К. Не знаю, что с ним стряслось, но он вскоре исчез с крымского литературного горизонта. И стихи его больше не появлялись в печати. Пьеса под названием «Ноль-ноль» так и не была поставлена, несмотря на визу реперткома. Только в 1944 году я случайно в фашистской газетенке «Голос Крыма» натолкнулся на стишок, подписанный Сеней К. Стишок был вполне приличный, что-то про лес, болото и доброго лешего. Правда, тут же выяснилось, что стих этот Сеня просто слямзил из давней книжки «крестьянского» поэта Клычкова. Меня это удивило: Сеня считал себя гением, к стихам других поэтов относился презрительно, а тут слямзил чужой стишок. Но мало ли что бывает с такими «гениями», как Сеня К.
…Утром я первым делом отправился к Якову. Он сидел у подъезда гостиницы и чистил сапоги пехотному лейтенанту. Я решил подождать и встал в сторонке. Лейтенант был молоденький, веснушчатый, наверное, его только-только выпустили из училища, он еще не успел налюбоваться и насладиться своими первыми командирскими сапожками и потому следил за работой чистильщика придирчиво, требовательно, недовольно морщился, если ему казалось что-нибудь не так. Все время что-то сердито выговаривал. Яков только улыбался и кивал головой: мол, не беспокойтесь, товарищ лейтенант, все будет в порядке, и с необыкновенным азартом драил эти лейтенантские сапоги до тех пор, пока не отразился на их зеркальной поверхности весь нестерпимый жар и блеск пылающего крымского солнца. Лейтенант благодарно заулыбался и, уплатив за работу, лихо, по-курсантски козырнул чистильщику.
Я видел, как дрогнула правая рука Якова, дрогнула и чуть приподнялась, потом бессильно опустилась на колено. Он был без фуражки. Да и вся «форма» его явно не подходила для воинского приветствия — на нем была вылинявшая, потерявшая цвет футболка, парусиновые брюки и дешевые тапочки, почему-то прозванные романтиками тех лет балетками.
— Яков! — тихо позвал я.
Мы обнялись и долго смотрели друг другу в глаза, пытаясь прочесть в них то, о чем трудно, невозможно было говорить. Яков все хлопал меня по спине и растроганно бормотал:
— Вот здорово, что ты приехал, вот здорово!
Затем он легонько отодвинул меня, оглядел и рассмеялся:
— А я тебе рубаху вымазал. У меня руки, видишь, в ваксе.
— Это не самое страшное, Яков.
— Верно, есть вещи пострашнее… Да что мы стоим, пойдем куда-нибудь. Я сейчас прикрою свое заведение. Он смахнул в ящик щетки, баночки с ваксой и навесил на кресло эмалированную табличку с надписью: «Перерыв на обед».
— Какой же обед, Яков? Люди еще завтракают.
Яков усмехнулся:
— А я, брат, совмещаю — обед, завтрак, ужин. Не люблю канитель разводить.
Мы пересекли небольшую, раскаленную, как сковорода, площадь и сразу оказались в райской прохладе городского сада.
— Посидим на скамье или в кафе пройдем? — спросил Яков.
— Лучше посидим здесь, через час я должен быть в обкоме.
— Обещали работу?
— Да, обещали. — Я коротко рассказал Якову, что собираюсь делать.
— Везет тебе, — тихо проговорил Яков. — Вот работу обещали. Это уж что-то значит. А мне, брат, даже не обещают. Отрезанный ломоть. Вот и превратился поневоле в беспатентного кустаря-одиночку.
— А Сенька думает, что это демонстрация.
— Какой Сенька?
Я рассказал о встрече в трамвае.
— Ну и подонок, — рассвирепел Яков. — Это же додуматься надо. Яков Чапичев против Советской власти демонстрирует. Не дождется, гад! Демонстрация… Его бы, подонка, в мою шкуру.
Тут бы мне спросить: «Что же с тобой приключилось, Яков?» Но я не спросил. Почувствовал как-то, что не время спрашивать. А Чапичев продолжал:
— Поверишь, куда я только не обращался. Сначала в депо пошел, попросился в шлакочисты. Потребовали характеристику с прежней работы. А какую я им принесу характеристику? Ну и не взяли: депо — особый объект. Я к грузчикам. И те: давай характеристику. Куда ни пойду, везде одна и та же песенка. Я дома уже не мог родным в глаза смотреть. Я вообще по натуре своей не иждивенец. А тут тем более: ведь родители у меня совсем старые стали. Разве не стыдно их хлеб есть! А выхода нет. Один выход — в Салгир вниз головой. Да не утонешь в Салгире, обмелел. Каждое утро чуть свет я уходил из дому в этот сад. До свистков сидел, пока сторожа не прогоняли — вечером вход платный. Сижу и будто читаю. А сам ни строчки не вижу, ни буквы. Перед глазами туман. Черная стена. К счастью, мальчишка один тут работал, чистильщик. Вот тут как раз, возле этой скамейки. Славный такой паренек — Христик Папаригопуло. Большой любитель кино. А я тогда в кино не ходил. Не стану же просить у матери денег на билет. Так этот Христик мне все картины пересказывал. Замечательно пересказывал, с придумкой, с фантазией. Картина, например, идет час, полтора, а ему для рассказа и трех мало. Спасибо Христику, скрашивал мне те дни. А потом он меня и к делу приставил…