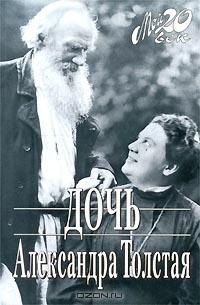Александра Толстая - ДОЧЬ
Насколько я помню, мы хлопотали за арестованных членов кооперативного издательства «Задруга[85]». «Задругу», как и другие культурные начинания частного характера, разгромили, и бывшие члены ее преследовались. Может быть, их арестовывали в связи с отъездом бывшего председателя «Задруги» историка С. П. Мельгунова, написавшего уже за рубежом книги «Красный террор», «Колчак» и другие.
Никогда не забуду лица Веры Николаевны Фигнер, когда мы с ней входили в кабинет Менжинского. Сколько гордости, достоинства было в ее аристократическом, когда–то, должно быть, очень красивом лице, когда мы получали пропуск в комендатуру ГПУ. Годы одиночного заключения не согнули ее гордую голову.
Нам пришлось подняться на третий этаж. Красноармеец почтительно показывал нам дорогу. В конце длинного коридора открылась дверь, раздвинулись тяжелые портьеры. Менжинский стоял на пороге.
— Очень рад, что имею удовольствие видеть вас у себя!
Вера Николаевна не склонила головы, не ответила.
— Ведь было время, когда мы вместе работали с вами, — продолжал Менжинский, — помните…
— Да, вы тогда писали…
— Да, я был писателем тогда
— А теперь? — К сожалению, вы переменили свою деятельность, — продолжала Вера Николаевна, не замечая протянутой руки, — и… мы уж больше с вами не товарищи…
На секунду протянутая рука повисла в воздухе, тень пробежала по лицу чекиста, но он не убрал протянутой руки, а сделал вид, что указывал ею в глубь комнаты.
Бесшумно ступая по густым коврам, мы вошли в комнату.
— Пожалуйста, садитесь!
Возможно, что Менжинский обиделся на обращение с ним В. Н. Фигнер; сотрудники «Задруги» были освобождены гораздо позднее.
Следующую мою просьбу Менжинский исполнил.
Ко мне пришел писатель, я знала его по работе на фронте в Земском Союзе. Он только что приехал из Сибири. Работал у Колчака, потом скрывался в Москве.
— Я хочу легализироваться, — сказал он, — не можете ли вы помочь мне?
Я задумалась;
— А вы согласны рисковать?
— Я думаю, что без этого нельзя.
И вот я опять в кабинете заместителя председателя ОГПУ, Вячеслава Рудольфовича Менжинского. Он всегда был со мною любезен. Почему? До сего времени мне это непонятно. Я не верю, чтобы у него было уважение к Толстому и что поэтому он относился ко мне снисходительно, желая себя уверить, что и они уважают культурные ценности России — русских писателей, художников. А может быть, этих, у власти стоящих людей, могущих каждую минуту раздавить меня, забавляла моя откровенность, граничащая с дерзостью, которой я сама себя тешила, разговаривая с ними.
Помню, как однажды, войдя в кабинет к Менжинскому, я начала свою просьбу словами:
— Долго ли вы будете продолжать заниматься этим грязным делом? Казнить ни в чем не повинных людей? Ведь должен же наступить конец этой бессмысленной жестокости?
Любезная улыбка застыла, и взгляд хитрых маленьких глаз из–под пенсне сделался острым, жестким.
— ГПУ перестанет существовать, как только мы уничтожим контрреволюционные элементы в стране!
На этот раз в моих руках прямая ответственность за жизнь хорошего умного человека, известного писателя, и я должна быть очень осторожна.
— Чем могу служить? Говорите, только не задерживайте. Пришлось работать всю ночь — устал, — бросает он вскользь.
Менжинский не похож на чекиста. Интеллигентский клок волос свисает на лоб, лицо подвижное, скорее красивое, но чем–то напоминает лису.
— Вячеслав Рудольфович, — говорю я, — трудно верить заместителю председателя ГПУ, когда вопрос касается политических, но я пришла к вам сегодня с полным доверием, и я верю, что вы мне ответите тем же.
— Гм… Почему же это нам трудно верить?
Глаза мои встретились с маленькими хитрыми глазками поляка.
— А что если бы я просила вас помиловать человека, участвовавшего в белом движении?
— Многое зависит от того, кто он, где он сейчас, чем занимается!
Жесткие глаза кололи, гипнотизировали.
— Представьте себе, что этот человек далеко, скрывается под чужим именем, но хочет легализироваться…
— Весьма возможно, что мы пойдем ему навстречу… если он надежный, если мы узнаем, что он искренно раскаялся в своей контрреволюционной деятельности. Но ведь для этого я должен знать!
И чем сильнее сверлили острые глаза, стараясь внушить, напугать, тем сильнее росло во мне внутреннее противодействие. Напряжение дошло до крайних пределов.
— Я вам ничего не скажу, даже если бы вы арестовали, пытали меня, пока вы не дадите мне честное слово, что вы этого человека не тронете, если я назову его вам.
— А чем он занимается? Где он сейчас?
Я молчала. Допрос продолжался около часа. Наконец я встала, собираясь уходить.
— Подождите!
Менжинский с минуту колебался.
— Он активно участвовал, сражался против Красной Армии?
— Нет.
— Извольте, я даю вам слово, что я его не трону.
— Не посадите в тюрьму, не сошлете, не казните?
— Нет.
Я назвала фамилию писателя. Менжинский эту фамилию знал.
— Где он?
— В Москве.
— Скажите ему, чтобы он завтра ко мне явился.
— Хорошо.
Он написал пропуск и подал мне.
Менжинский сдержал слово. Писатель получил бумаги, остался жить в Москве и стал заниматься своей литературной деятельностью.
«РЕЛИГИЯ — ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА»
Мы все — дети, музейные работники, учителя, крестьяне — жили двойной жизнью годами. Одна жизнь — официальная, в угоду правительству, другая — своя, которая попиралась и которую мы скрывали в глубине своего существа. Даже дети научились фальшивить.
Учитель обществоведения, по долгу своей службы, на собраниях в совете, в школе, на митингах, днем громил религию, кощунствовал, а ночью пел молитвы.
Чтобы забыться, заглушить в себе голос, подсознательно поющий молитвы, учитель все с большим и большим жаром отдается работе и в горячке деятельности сам не замечает того, что он все больше и больше подлаживается и теряет то свое настоящее, что было в нем. Он с подобострастной улыбкой встречает ничтожного комсомольца или члена партии, лебезит перед ним, и в своей угодливости, в безумном страхе перед возможностью преследования, потери должности, он все больше и больше становится ничтожеством.
В первой ступени ребятам не хочется петь «Интернационал», и они упрекают учительницу за то, что она заставила их это делать. Во второй ступени, на вопрос заместителя наркома по просвещению Эпштейна, ходят ли они в церковь, ребята разражаются бурным смехом, а вместе с тем я почти уверена, что многие из них ходили в церковь и изводили учителей вопросами о вере, Боге и т. п.