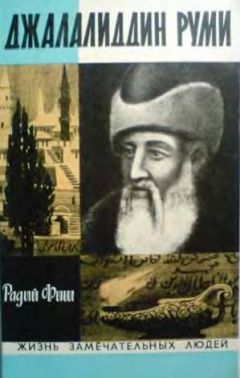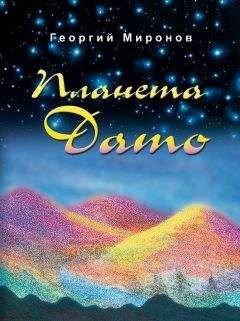Радий Фиш - Джалалиддин Руми
Он не смог обнять друга, увидеть его улыбку, услышать его голос. Но разве означало это, что навсегда закатилось Солнце его Истины? «Если он — это я, то чего же я ищу? Его красота, его совершенство — во мне. Словно в чаше вино, я вскипаю и пенюсь, я ищу самого себя!..»
И все же он опять собирается в Дамаск.
Земли Рума покинув, в третий раз мы направимся в улей Дамаска.
Ради локонов черных, как ночь, ради кудрей прекрасных Дамаска.
Коль скрывает свой лик Солнце Истины в них,
Хоть не слуги мы и не рабы, но рабы мы и слуги Дамаска.
Но, быть может, Шемседдин укрылся на своей родине в Тебризе? Он и туда готов отправиться, лишь бы еще раз, хоть один-единственный раз увидеть своего друга земными глазами. «Истосковавшись по свиданью с Шемсом, мне на ухо нашептывает сердце: «В Тебриз спеши! Тебриз, как гребнем, прочеши!»
Но тут Велед, изнемогая под тяжестью кровавой тайны, решается наконец сказать отцу, что его друга больше нет на свете и потому на земле его искать бесполезно. Он говорит намеками, не сразу: правда может убить Джалалиддина.
Как горько мне, любимый мой: ты в муках и тоске ушел.
Как я молил, как я скорбел! Все бесполезно — ты ушел.
В любой беде лекарством был, любую хитрость обходил.
Лишь раз ты выход не нашел. И вот ты навсегда ушел.
Как месяц, ясен был твой лик, твои объятья — как цветник.
Как ты на землю черную упал? Как в эту землю подлую попал?!
Где твои шутки? Слово где? Где ум, что тайны постигал?
Среди друзей сидел. Нежданно встал и к змеям и червям ушел…
В какую мысль был погружен, что встал и в вечный путь ушел?..
Душа в крови, и некого спросить, ответь же мне, хоть не во сне ушел?
Где твой улыбчивый ответ, что ж ты молчишь, не говоришь?
Ты сердце мне прижег железом раскаленным, в отчаяньи покинул и ушел.
Куда? Ни пыли, ни следа. В какой кровавый путь ты в этот раз ушел?!
Время затягивает раны, превращает уголь в золу, камень в песок. Но никогда не заживет эта рана в душе Джалалиддина.
Все кончено, друг мой, что было, то было.
Кто в мире услышит? Кто в мире заплачет?
Вонзилась стрела ядовитая в печень,
Пробит ею щит, и звенит он и плачет.
Лежу под такого глухою землею, —
Весь мир бы давно задохнулся от плача,
Нет больше тебя, Шемседдин из Тебриза,
О гордость людская! Но люди не плачут.
Нет в этом мире ни уха, ни глаза,
Иначе оглохли б, ослепли от плача.
Но нет в этом мире ни у кого
Ни слуха, ни зренья, кроме него.
Пройдет десять лет. Записывая под его диктовку первую книгу «Месневи», «писарь тайн» Хюсаметтин именем многолетней дружбы попросит поэта поведать миру историю Шемседдина. И поэт скажет: «Не мучь меня! Не касайся этой кровавой распри! Не говори больше о Шемседдине Тебризи!»
И до конца дней друзья не осмелятся расспрашивать поэта о друге. Даже имя его будут вспоминать с опаской, дабы не бередить незаживающую рану. Вот почему осталась в черновиках книга «Бесед», которые вел Шемс с Джалалиддином, а друзья и последователи поэта продолжали молчать о его гибели.
Таинственное исчезновение Шемседдина Тебризи, стихи великого поэта, для которого он был бессмертен, как Солнце, как Истина, со временем родили веру в бессмертие Шемседдина. В один прекрасный день так же неожиданно, как явился в Конью, снова-де явится Шемседдин в дверях обители дервишей Мевлеви. Явится как мессия новой эры.
–Лишь в середине нашего века при ремонте старой маленькой обители была обнаружена могила Шемседдина Тебризи.
В полу — деревянная крышка. Под нею — каменные ступени, ведущие вниз. Небольшое, в рост человека, помещение. Здесь, у левой стены, — обмазанное гипсом прямоугольное надгробие.
Мы выходим на солнце.
Прямо перед гробницей — остатки пересохшего колодца сельджукской эпохи.
Неподалеку минарет. Он построен много позднее, во времена Османской империи. Но в его стене один из камней, как о том свидетельствует надпись, был когда-то камнем в стене медресе Гевхерташа, пожалованной отцу Джалалиддина Руми.
Странное, неодолимое волнение подымается к горлу. Мы не верим ни в аллаха, ни в мессию, ни в бессмертие человека по имени Шемседдин, убитого декабрьским вечером вот здесь семьсот с лишним лет назад и тайком похороненного под этим надгробием.
Но мы верим в бессмертное стремление человечества к совершенству.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ЖАТВА
Слуги формул — мира не объяснят.
Нищие духом, они не на том стоят.
Ешь виноград, а им кожуру оставь,
Оскомину правил и жвачку мертвых цитат.
Джалалиддин печально шел по ремесленному рынку. Миновав прохладу крытых переходов, где в глубине лавок, поджав ноги, купцы распивали чай, делились новостями, беседовали с клиентами, вышел в башмачный ряд. Первая весенняя жара после полудня спала, но солнце все еще припекало плечи. С полотняных навесов мастерских до самой земли длинными гроздьями свисали усыпанные блестками желтые, красные, синие, зеленые туфли без задников с кривыми, загнутыми носами. Кричали торговцы сластями, окруженные ребятишками. Сквозь базарную толпу шел ослик, груженный апельсинами. За ним пробирался носильщик-хамал, точно еж, весь утыканный ножками скамей, согнувшийся в три погибели под их тяжестью.
Завидев Джалалиддина, люди умолкали. Почтительно вставали со своих мест. Кланялись. Он шел, задумчиво опустив голову.
Сколько вокруг людей! Он всегда среди них, один из них. Но как он одинок!
Он свернул за угол. В глубине мастерских десятками закатных солнц горели прислоненные к стенам медные подносы, тянули вверх лебединые шеи чеканные кувшины. Звон металла мешался с гомоном толпы.
Ему уже за сорок. Жизнь прошла, пока он поднялся на вершину, уместил в себе весь мир, всех людей. И вот он опять один, словно на роду написано ему, обретя в другом человеке самого себя, терять его, чтобы снова искать.
А на земле опять весна. Зазеленели степи. Тополя выбросили первые стрелки листьев. Первые бутоны налились на розовых кустах.
Его дух стал как солнце — повсюду проникающее, питающее жизнь. Но как оно одиноко, солнце, в своей силе и на своей высоте! Кто может, не зажмурившись, глядеть в его лик?
Даже солнце, чтоб увидеть себя, нуждается в отражении.
Сколько вокруг людей! Но зеркала их душ занавешены себялюбием. Разве они себя любят? Нет, их любовь — питье, еда, вещи, их услаждающие, деньги, позволяющие овладевать вещами, власть, позволяющая распоряжаться другими людьми, как вещами. Их души — амбар, где без всякой связи, в беспорядке свалены предметы, среди которых они сами такая же бессмысленная неодушевленная вещь.