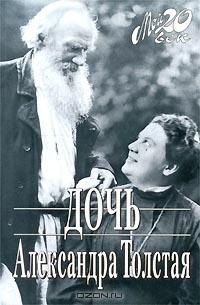Александра Толстая - ДОЧЬ
— А что полагается коменданту и его помощникам? — спросила я как–то у старосты.
— Да ничего не полагается, у них свои пайки,..
— Так почему же никто не протестует? Староста только махнула рукой.
А на обед опять принесли суп из очистков и кашу без масла.
— Я пойду к коменданту, — сказала я, — это черт знает что такое. Нельзя же молча смотреть, как заключенные голодают.
— Напрасно вы это, Александра Львовна, ей-Богу напрасно.
Но остановить меня было трудно. Схватив котелок, я пошла в контору. Комендант в фуражке сидел за письменным столом и с видимым напряжением рассматривал какую–то бумагу.
— Товарищ комендант! Смотрите, чем нас кормят.
— Что–о–о-о?
— Неужели нам полагается вместо картошки картофельные очистки в суп? и каша без масла?
— Вы что, гражданка Толстая, бунтовать вздумали?
— Я хочу, чтобы заключенные получали то, что им положено. Больше ничего.
Широкое веснушчатое лицо вдруг побагровело, громадный кулак поднялся в воздух и с силой ударился о стол.
— Молчать! Эй, кто там? Назначить гражданку Толстую дежурить в кухню на двадцать пятое и двадцать шестое декабря.
Я повернулась и вышла.
В день Рождества я встала в шесть часов и пошла в кухню. Было еще темно.
Дядя Миша — единственный монах, каким–то чудом удержавшийся в Новоспасском, — гремя ключами, пошел выдавать продукты. На кухне одна из кухарок стала делить на две половины масло, сахар и мясо.
— Что это вы делаете? Куда это?
— Коменданту и служащим.
— Не надо! — сказала я,
— То есть как это не надо?
— Не надо резать. Все это пойдет на заключенных. Администрации ничего не полагается.
Кухарки ворчали, бранились, но я как цербер следила за продуктами, поступавшими в кухню, и настояла на своем. В первый день Рождества заключенные получила хороший обед.
Но комендант смотрел на меня волком. Заключенные качали головами.
— Не простит он вам этого. Не сможет теперь отомстить, потом сорвет.
Да я и сама чувствовала,, что положение мое в лагере должно было измениться= Прежде мне разрешали иногда ходить в город: в Наркомпрос за волшебным фонарем для лекций, к зубному врачу. Комендант ценил мою работу по организации тюремной школы и устройству лекций. В его отчетах, вероятно, немало писалось о культурно–просветительной работе Новоспасского лагеря.
Теперь я была на подозрении. Я боялась писать дневник, боялась, как делала это раньше, отправлять написанное в пустой посуде из–под передачи домой. Я стала искать место, где бы я могла хранить дневник в камере.
Один из кафелей с синими изразцами в лежанке расшатался. Я вынула его, положила листки и опять заделала.
— Что это вы все пишете? — спрашивала меня портниха Маня, сидевшая за воровство и недавно переведенная в нашу камеру.
— Вас описываю, — ответила я, смеясь.
Она ничего не сказала, но я чувствовала, что она заинтересовалась моим писанием. Мы боялись этой Мани, она была дружна с женой коменданта.
— Маня, что это? Какая красота! — воскликнула однажды армянка, когда Маня развернула узел с только что принесенной работой.
— Комендантской жене платье шью, — ответила Маня.
— Тоже сказала — жене!.. — возмутилась одна из женщин. — Таких–то жен у него… счет потеряешь, — и она с жадным любопытством потянулась к кровати, на которой Маня раскладывала великолепный, тяжелый бархат густолилового цвета.
Через несколько дней Маня сдала лиловое платье и принесла другую материю, еще лучше; превосходный, плотный, белый с золотыми разводами шелк.
Вечером в комнату старосты вошла армянка с кусочком материи в руках.
— Смотрите. Из архиерейских саккосов шьет. Ей—Богу, — взволнованно прошептала она.
Среди лоскутков, валявшихся на полу, она нашла золотой крест.
— Александра Федоровна, — спросила я старосту, когда мы остались с ней вдвоем, — вы знали, что комендант грабит монастырскую ризницу?
— Знала, — сказала она, — давно знала. Но что поделаешь? — Все равно нынче–завтра разграбят. Да уж теперь и нет ничего. Знаете, какой крест спустил? Золотой, пять фунтов весу, А это уж так, остатки — архиерейская одежда осталась… Я, знаете, стараюсь об этих вещах не думать. Вот уже скоро два года, как я по тюрьмам мотаюсь. Сколько раз, бывало, люди волнуются, так же, как вы, вступаются за заключенных, думают, можно войну с администрацией вести. Напрасно это. Какой он ни есть зверь, но мы уже знаем, как с ним ладить. Ну, а начнешь с ним войну, либо его уберут, либо нет. А что если не уберут? Он озвереет так, что житья с ним не будет. Ну, а если сменят, может, еще худшего пришлют. И верьте мне, какой бы он ни был вор, мерзавец, коли он член партии, не простят они вам этого… Никогда.
В комнату вошел странный, очень маленький человечек. Мальчишка? Нет! Женщина! Стриженые черные вьющиеся волосы, блестящие, как маслины, глаза, мелкие черты лица, красная сатиновая навыпуск рубаха, кожаная распахнутая куртка, короткая черная юбка, высокие сапоги.
Русский костюм не гармонировал с типичным еврейским лицом. Она вошла в сопровождении коменданта, его помощника и девицы в европейском платье.
— Рабоче–крестьянская инспекция, — шепнула мне Александра Федоровна.
— Белье казенное? — спросила еврейка, по–видимому, главное лицо в комиссии.
— Свое, — ответила староста.
— Часто меняете? — обратилась она ко мне. Я рассмеялась.
— И почему вы смеетесь? — спросила она сурово, сморщив маленькую мордочку. — Покажите–ка, — и она отвернула край одеяла на моей постели.
Я стояла не двигаясь и продолжала улыбаться… Решительным движением она стала подходить ко всем кроватям, откидывать одеяла и смотреть постельное белье.
— Чисто у вас, — сказала она.
— Политические, — пояснил комендант.
— Что же вы раньше не сказали? Ваша фамилия? — обратилась она ко мне.
— Толстая.
— А! Я потом зайду к вам.
Инспекция ушла в сопровождении следовавшей по пятам свиты, а я пошла в контору, где мне было поручено организовать перепись заключенных.
Мы еще не успели наладить работу, как в контору вошла комиссия. С тем же деловым, важным видом маленькое существо продолжало расспрашивать о порядках в лагере — и вдруг величественно, отчего я опять чуть не расхохоталась, махнула крошечной ручкой по направлению к своей свите.
— Прошу вас, товарищи, выйти, — сказала она, — я желаю наедине побеседовать с заключенными.
Почтительно склонившись, комендант, а за ним помощники вышли из комнаты.
— Ну-с, товарищи, — сказала она, когда в конторе остались одни заключенные, — я, — и она ткнула себя в красную сатиновую грудь указательным пальцем, — представитель рабоче–крестьянской инспекции, с одной стороны, с другой — я — член женотдела. Товарищи! Наше рабоче–крестьянское правительство очень озабочено тем, чтобы граждане рабочие, крестьяне, вообще, так сказать, трудящиеся, заблудившиеся еще, вероятно, под гнетом буржуазного правительства, просвещались бы в духе социализма. Товарищи! Вы все должны идти с нами в ногу. Все должны помогать делу советского строительства. Каждый из вас должен, выйдя на свободу, постараться стать в ряды пролетариата, борющегося за свободу трудящихся. Кто здесь в лагере занимается просвещением?