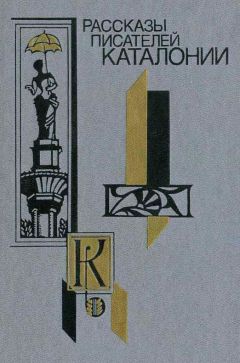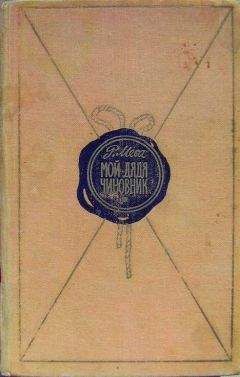Рамон Фолк-и-Камараза - Зеркальная комната
И когда я сказал, что не могу столько ждать, что дело не терпит отлагательств, сеньор Вальдеавельяно вновь повел себя как порядочный человек и оставшиеся пять дней, что я работал под его началом, проявлял — уже в который раз! — отеческую чуткость и такт, с которыми шеф воспринимает многие чудачества образцового служащего: например, мое упорное стремление иметь собственный свободный график работы — начинать в четверть восьмого и заканчивать без четверти четыре, тогда как большинство смертных предпочитает приходить на службу к девяти и уходить, как положено, около шести; мое упрямое стремление заменить перекуры и «кофепития» двадцатиминутной прогулкой — в любую погоду, несмотря на ветер, дождь или снег, — среди столетних дубов, по дорожкам парка, окружающего стеклобетонное здание Ассоциации; пунктуальность, с которой я непременно оказываюсь у дверей буфета ровно за пять минут до его открытия, чтобы проглотить еду всего за четверть часа. Так же деликатно шеф отнесся и к другой моей странности: всегда (даже если дует жестокий bise[8]) держать открытой форточку в моем кабинете-клетке, что неизменно вызывает у сеньора Вальдеавельяно иронию (и у начальства есть чувство юмора!): он предлагает повесить на дверях моего кабинета табличку: «Без шарфа не входить», а принося мне очередную порцию бумаг, неизменно выражает опасение найти мой «хладный труп».
Удивительное дело, но я чувствую, как все больше проникаюсь нежностью к сеньору Вальдеавельяно! Должно быть, он из тех добропорядочных людей, обаяние которых ощущаешь только на расстоянии, а сегодня, этой ночью, когда я начал поправляться (раны еще болят, но перемена мест оказалась для меня лучшим лекарством: я уже ощущаю особый сладкий зуд — предвестие полного выздоровления), чувства мои обострены до предела и я способен понять, что шеф — человек куда более чуткий (хотя многие подчиненные не могут разглядеть этого за внешностью добродушного бульдога), чем я предполагал еще десять-двенадцать часов назад. Вспоминаю, с каким олимпийским спокойствием он воспринял очередную мою странность: однажды в самом центре Женевы мне страшно повезло — я нашел парикмахера-итальянца, которого, естественно, звали Марио. Спешу пояснить: чтобы найти в Женеве цирюльника-итальянца по имени Марио, не нужно особого везения, напротив, повезет тому, кто не встретит такого человека в городе, где все парикмахеры обычно итальянцы и зовутся (или называют себя) Марио. Удача в том, что мой парикмахер, как я обнаружил, прибегая к его услугам раз в два месяца, — настоящий художник, художник-реалист, но, дабы заработать на хлеб насущный, он вынужден посвящать себя абстрактному искусству, изменять своему истинному призванию (если считать, будто это выражение имеет смысл, что, впрочем, вполне возможно).
Однако, говоря о художнике-абстракционисте Марио, я выражаюсь образно. Насколько мне известно, мой Марио не пишет ни маслом, ни гуашью. Просто когда в первый раз я сел в его кресло и попросил постричь меня, «как в добрые старые времена» (то есть под полубокс), сердце Марио заколотилось от радости. Вынужденный ежедневно орудовать ножницами и специальной бритвой, изобретать прихотливые прически, взбивать волосы массажной щеткой и укладывать феном, возводя на голове невообразимые конструкции, Марио, вероятно, почувствовал, что нашел-таки своего клиента, и постриг меня так, что я сильно напоминал актера немого кино и в то же время свою фотографию тридцать третьего года, сделанную после первого причастия. Уверен: с той минуты, как я покидаю парикмахерскую, Марио считает дни до нашей следующей встречи — а их целых шестьдесят! — и всякий раз встречает меня, сияя от радости, и его слова «Comme d’habitude, monsieur?»[9] проникают мне в самое сердце.
Моя прическа — еще один источник огорчений шефа, причем неиссякаемый, поскольку раз в два месяца она неизбежно портит ему настроение. Сеньор Вальдеавельяно (элегантный мужчина примерно моего возраста, всегда хорошо одет, и голова его хоть и не отличается красотой, зато оформлена по всем правилам парикмахерского искусства) никак не может понять мое нездоровое желание уродовать себя нещадно всякий раз ровно через пятьдесят девять дней после последней стрижки, когда моя седеющая шевелюра начинает принимать более-менее благообразный вид. Однажды шеф сказал мне: «Я бы советовал вам оставить волосы в покое и не подвергать себя такой экзекуции, разве вы не видите, что с этой прической похожи на молодчика из правых?» Много ли найдется на свете начальников, принимающих подобную чепуху столь близко к сердцу, так беспокоящихся о состоянии проборов и челок своих подчиненных? А где вы видели начальника, который, высказав однажды свое недовольство — польстившее мне, однако, вниманием к моей скромной персоне, — продолжал бы молча выносить кошмарную стрижку своего служащего, образцового в других отношениях?
Этой ночью я совершенно один, но никак не могу почувствовать себя в полном одиночестве. Никто не покушается на мое уединение, но в душе покоя нет: похоже, Всемирная сигиллографическая ассоциация и сеньор Вальдеавельяно прибыли вместе со мной в моем чемодане. Здесь они выглядят совсем по-иному, но избавиться от них я не в силах.
Впрочем, на одиночество грех жаловаться. Таксист-андалусец — он привез меня сюда из аэропорта и был последним человеческим существом, с которым я общался — с некоторым опасением оставил меня одного у дверей дома. Надо сказать, он проявил себя человеком тонким и участливым. Выехав из аэропорта, мы пересекли почти всю Барселону, а когда машина свернула на проспект Меридиана, таксист не удержался и рассказал, что в этот час — если нет пассажиров — он всегда останавливается «вон на том углу» и ждет своего шестнадцатилетнего сына — студента, изучающего электронику, — чтобы подвезти его: ведь по этим улицам опасно ходить одному, того и гляди какой-нибудь молодчик приставит нож к горлу и потребует часы или деньги.
Тут я принялся уверять, что не тороплюсь, что меня никто не ждет и мы вполне можем завезти домой его сына. Андалусец был очень доволен, хотя долго не верил в мою искренность, и, лишь когда я настоял на своем, он решился наконец «воспользоваться моей добротой».
Мы прождали с четверть часа, минут двадцать, таксист, добрая душа, все это время волновался за меня, и мне приходилось успокаивать беднягу, но он беспокоился все больше и наконец, не обращая внимания на мои протесты — в тот момент уже несколько лицемерные, надо признать, — завел машину, и мы помчались по проспекту Меридиана.
Путь был не близкий — через всю Барселону и еще минут сорок пять по шоссе на Вальнову, — и между нами завязался доверительный разговор, мы многое успели порассказать друг другу и даже похвастались фотографиями жены и детей (в особенности таксист, так как я не предвидел подобной возможности и не захватил фотографии с собой). Наш приятный каталоно-андалусский диалог не умолкал ни на минуту, пока машина неслась по шоссе, где любой таксист может ехать с завязанными глазами. Но едва наступила решительная минута, а именно когда после поворота на Туро я попросил его свернуть на мрачную и разбитую дорогу, ведущую к моему дому, наша милая беседа прервалась на полуслове. Проехав двести-триста метров в полном молчании по скверной, разъезженной дороге, таксист спросил изменившимся голосом, уверен ли я, что мы едем куда надо. Тут мы добрались до развилки, и направо показались огни поместья Рибот, но я скрепя сердце признался таксисту, что придется свернуть налево, и вместо того, чтобы последовать к светлому маяку надежды, мы окончательно погрузились во тьму.