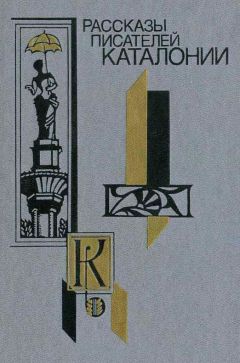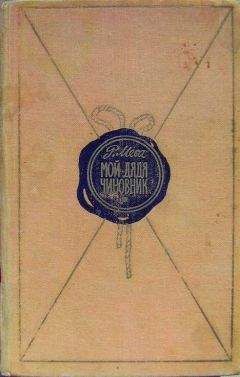Рамон Фолк-и-Камараза - Зеркальная комната
Я снял плащ и присел, чтобы еще раз осмотреть тебя, мой дом. Влажный воздух становился обволакивающе мягким, и, протянув руку к батарее, я обнаружил, что она уже нагрелась. Некоторое время я сидел, не снимая руки с батареи, чувствуя, как нарастает тепло.
И постепенно мной овладевало настойчивое желание — нарушить собственные планы, сделать все наоборот (не сочтите, будто я приехал совершить нечто важное и героическое). Еще в самолете я думал: прилечу поздно, всю ночь просплю как сурок, а утром начну книгу, сварив предварительно крепкий кофе и набив трубку (первую после трех месяцев «никотинового воздержания»).
Но случилось неизбежное — то, что случается со мной, когда после долгих дней одиночества я приезжаю в Женеву поздно ночью, вижу Аделу и детей, ожидающих меня, и чувствую неудержимое желание поговорить, рассказать им обо всем на свете, а когда бедные дети, не в силах сопротивляться сну, уходят в спальню, я продолжаю беседовать с Аделой — радость новой встречи переполняет меня и изливается неудержимым потоком слов.
И этой ночью я не смог побороть искушение. Приготовив кофе — плита повиновалась так же послушно, как замок, — я поставил пишущую машинку на маленький столик, пододвинул плетеное кресло и, словно непослушный, расшалившийся ребенок, которого так и не смогли уложить спать, позабыв обо всем, принялся — нет, не писать давно задуманную книгу, но объяснять тебе, мой дом, что я снова здесь, объяснять самому себе, зачем я приехал и почему мне так отчаянно хочется смеяться над собой, над ненавистной службой и над пятьюдесятью четырьмя годами, еще вчера тяжким грузом давившими мне на плечи.
2
После ночного бдения я лег спать только на рассвете, в полной уверенности, что тут же усну как убитый. Ложе я устроил себе в маленькой комнатушке (обычно там спит Виктор), которую домашние называют «келья»: кровать, в углу — рукомойник с зеркалом, ночной столик из дома тещи, маленькая конторка, доставшаяся от тетушки Розины. И единственное окошко, выходящее в лес.
Я испытал истинное блаженство, когда улегся в постель и завернулся в свежие простыни.
И сразу же понял, что не смогу уснуть. Вокруг царило полное молчание, даже тиканье ходиков не доносилось снизу. Правда, вода все так же журчала в трубах, но ее музыка только успокаивала, а не усыпляла. А главное — я никак не мог отогнать мысль о причине — или предлоге? — моего бегства: ведь я приехал, чтобы написать книгу, приехал, полный решимости писать. Нет, не роман — их я «сотворил» немало еще до того, как стал прилежным чиновником, — но воспоминания о моем прошлом, о жизни нашей семьи, о далеком времени, затаившемся в темных углах на чердаке этого старого дома; своего рода опись, каталог — вот и возможное название, разве только слишком официальное? — нотариальный акт, если предположить, что нотариус может заверить своей большой печатью запахи или оплеухи, которые я получал восьмилетним мальчишкой, когда пачкал парадную матроску. Каталог, неоконченная хроника, семейный альбом, навсегда забытый в ящике стола… сколько вариантов названия! Впрочем, в глубине души я решил назвать книгу иначе, может быть, слишком торжественно: «От имени всех» — и таким образом сразу пояснить, что отвожу себе скромную роль летописца жизни своих родных, мертвых и живых.
Моя книга нужна детям, хотя они и не осознают этого, да и сам я с каждым прожитым днем все больше хочу написать ее. Если мне изредка случается говорить «о тех далеких годах», я чувствую, что мои рассказы — если они, конечно, не слишком длинные — интересуют и волнуют детей. Конечно, хорошо бы записать все это, ведь написанное — остается. К тому же пухлую и скучную книгу всегда можно захлопнуть, а заставить отца или деда замолчать, когда они рассказывают о «былом», трудновато, чтобы не сказать невозможно.
Ворочаясь в постели с боку на бок, я чувствовал растущее желание немедленно приняться за работу; глаза мои были плотно закрыты, но все вокруг освещали какие-то яркие блуждающие огоньки, я вдруг так ясно увидел все то, что мог бы написать, увидел книгу в целом и даже отдельные ее страницы и тут же вскочил с постели, оделся и спустился вниз с твердым намерением сразу сесть за машинку, не обращая внимания на поздний час, — ведь именно для того, чтобы работать, ни на что не обращая внимания, я и приехал сюда.
Но внизу из-за жалюзи пробивались лучи света, и я не устоял перед искушением выйти из дома, увидеть сад, дальний лес, распаханное поле — все то, что вчера скрывала темнота.
И не пожалел об этом. Светало, туманная дымка укрывала небо, опутывала цветы миндального дерева, посаженного отцом почти полвека назад, и маленькую нахохлившуюся мимозу, которую посадил я в прошлом году.
Тапочки остались возле постели, я порылся в шкафу под лестницей, нашел там старые эспарденьи[10] и сразу же почувствовал себя персонажем собственной книги, переживая то, что хотел описать: маленькими детьми мы с братьями приезжали в Вальнову на лето, после девяти месяцев городской жизни тотчас же закидывали ботинки и носки в дальний угол, надевали эспарденьи и уже не снимали их, разве что когда шли в церковь или танцевать на деревенском празднике, а мои дети носят кроссовки круглый год и не знают, какое счастье чувствовать подошвами все неровности земли — радоваться новой встрече с летом, с Вальновой и каждое утро длинных летних каникул просыпаться под птичий гомон, а не под треск разбитых трамваев или «грузовиков» на гужевой тяге из далекой поры моего детства.
А ведь именно в этот час я, образцовый служащий, вхожу в свою «келью» — в кабинет-клетку, в этот час во всем огромном здании только обслуживающий персонал, еще не работают лифты главного блока, а двери кабинетов распахнуты настежь или, как сказал бы поэт, усердные рабочие пчелы еще не трудятся в своих сотах (впрочем, это сравнение совершенно не подходит для большинства моих коллег). Иногда в этот час можно встретить какую-нибудь сотрудницу — старую деву, которая, не имея возможности держать кота в центре Мировой Сфрагистики, все же расточает дары своего щедрого сердца (поливая цветы в своем кабинете) и нерастраченные материнские чувства (поливая цветы в кабинете начальника).
В этот час я почти каждый день встречаюсь в лифте со служащими нашего кафе, большинство из них, как водится, испанцы, но есть и каталонка из Тортозы, правда, она всегда здоровается со мной по-французски, должно быть, потому, что очень близорука. Надо сказать, здороваются в лифте у нас только в этот час, «поутру», как говорит сеньор Вальдеавельяно, когда приносит очередную бумагу за час до окончания рабочего дня, чтобы я «проглотил» ее «завтра поутру», вновь демонстрируя тонкое чувство юмора и чуткое ко мне отношение, на этот раз чуткое вдвойне, так как, оставляя мне работу на завтра, шеф дает понять, что ему известно мое желание уходить с работы раньше других и в то же время он свято верит в цифру 7.15, которую я заношу в табель рабочего дня (этот важный документ заполняется всеми, не только образцовыми, сотрудниками ежедневно и еженедельно подтверждается начальственной подписью).