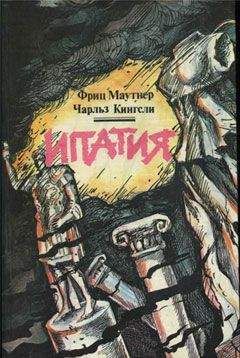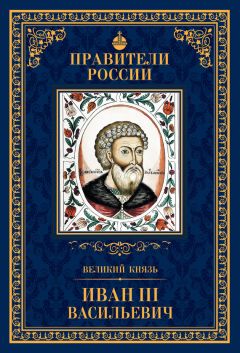Иван Майский - Перед бурей
бодной, сознательной по сравнению с условиями царской
России—очаровывало меня, будило в моем сознании новые
мысли, новые чувства. Лео сделался моим героем. Я стал
говорить его словами и афоризмами. Я избрал его имя
своим литературным псевдонимом. Я часто начинал теперь
свои письма к Пичужке словами: «Моя дорогая Сильвия»
и заканчивал их подписью: «Твой Лео». Я старался подра
жать своему идеалу в поведении, внешности, манерах.
Прочитав «Войну и мир», я сообщал Пичужке, что роман
произвел на меня очень сильное впечатление и что я, по
жалуй, готов признать за Л. Толстым талант, несколько,
напоминающий (но не достигающий) Шпильгагена! Это не
померное увлечение ныне совершенно забытым немец
ким писателем продолжалось у меня года два, и только
в последнем классе гимназии оно было вытеснено уже
более зрелыми и сознательными политическими настрое
ниями.
Как бы то ни было, но роман Шпильгагена явился одной
из важнейших вех в истории моего раннего духовного раз
вития. До того в поисках огней жизни я шел по путям
науки. Теперь начался постепенный поворот на путь обще
ственности. Этот поворот совершился не сразу и прошел
через ряд этапов, но в конечном счете он привел меня на
ту дорогу, которая стала столбовой дорогой моей жизни.
139
13. ГИМНАЗИЯ
По возвращении в Омск я стал по-новому присматри
ваться к окружающей обстановке. Не то, чтобы во мне
произошел какой-либо внезапный, крутой сдвиг, — нет,
этого не было. Основные линии моего духовного развития
оставались те же, что и раньше, однако лето в Кирилловне
и особенно роман Шпильгагена не прошли для меня бес
следно. Я сделал несколько шагов вперед по пути, кото
рым шел, и теперь многие вещи стали мне представляться
в ином свете, чем до того. Главная перемена состояла в том,
что во мне проснулось чувство к р и т и к и существующего
порядка. А отсюда, уже в дальнейшем, пришли протест
против этого порядка и участие в революционной борьбе за
его разрушение.
Впрочем, осенью 1898 года первое проявление моих но
вых настроений носило несколько пестрый и хаотический
характер. Я всегда много читал, но теперь я стал погло
щать книги и журналы целыми грудами. Никто не руково
дил моим чтением, и я спешно, упорно, в состоянии какого-
то перманентного умственного возбуждения, всасывал в
себя самые разнообразные мысли, чувства, образы, сведе
ния, факты из всех областей человеческого бытия. Проис
хождение вселенной, проблемы нравственности, вопросы
социальной борьбы, планетная система, молекулярное
строение тел, философия Сократа, искания Фауста, откры
тия Пастера, религия Магомета, симфонии Бетховена — все
это и многое другое совершало бешеный хоровод в моей
голове. У меня все время было такое ощущение, точно
меня привели к богатому столу, который ломится иод
тяжестью самых великолепных и изысканных яств, и
сказали: «Ну, насыщайся!» Я страшно голоден и с жадно
стью набрасываюсь на кушанья. Ем все, что попадается
под руку, без ножа и вилки, в диком беспорядке, поболь
ше напихивая в рот, с одной мыслью в голове:
«Лишь бы поскорее насытиться, а там все как-нибудь пере
варится».
Мало-помалу, однако, из этого хаоса стали вырисовы
ваться очертания какого-то смутного, постепенно склады
вающегося порядка. Мое чтение все больше стало концен
трироваться на таких именах, как Писарев, Добролюбов.
Некрасов, Щедрин, Герцен, Гейне, Шиллер, Байрон. А мои
мысли стали все больше кристаллизоваться на выводе, что
140
самым большим грехом человека является у м с т в е н н а я
т р у с о с т ь, что величайшей добродетелью является у м-
с т в е н н а я с м е л о с т ь и что лучшее средство для
борьбы с умственной трусостью есть о р у ж и е к р и т и к и ,
которое я тогда почему-то именовал «скептицизмом».
Но на что я мог в первую очередь направить острие
своей критики? Очевидно, на то, что в ту пору больше все
го составляло окружающий меня мир, чем я больше всего
болел, что доставляло мне больше всего неприятностей и
огорчений, — короче говоря, на г и м н а з и ю . Одно слу
чайное обстоятельство в сильной степени способствовало
такому выбору. Я прочитал у Писарева, которым в то вре
мя очень увлекался, блестящую критику постановки выс
шего образования в России 60-х годов прошлого века в
статье, озаглавленной «Наша университетская наука». Эта
статья произвела на меня огромное впечатление. И сразу
же в моей голове встал вопрос:
— Ну, а как обстоит дело с нашей гимназической
наукой?
Итак, мишень была найдена. Материала же для стрель
бы по мишени было сколько угодно.
Гимназия! Когда я сейчас произношу это слове, в моей
памяти невольно встает целая галлерея давно забытых
картин и образов...
Желтое двухэтажное каменное здание, с большой ико
ной над входной дверью. Длинные полутемные коридоры, в
которых даже в самый жаркий летний день почему-то хо
лодно. Выкрашенные в серую краску классы с рядами жел
то-грязных, изрезанных ножами, забрызганных чернильными
пятнами парт. В каждом классе такая же, пострадавшая
от времени и «бурь» кафедра, а по обе стороны ее — черные
доски с губками и мелками. Большой актовый зал в конце
нижнего коридора, где нас, гимназистов, изредка собирают
по торжественным дням и где в промежутки между ними
мы занимаемся гимнастикой. Широкий двор с несколькими
тощими деревьями, где с шумом и гамом в теплые дни мы
проводим большую перемену. Здесь можно побегать, по
кричать, поиграть в пятнашки, покрутиться на гигантских
шагах или подняться на руках по лестнице или канату.
В конце двора низкий, точно приплюснутый деревянный
дом — квартира директора. Это особый мир, отделенный
141
Омская гимназия тех времен.
от гимназии невысоким почерневшим забором, откуда ча
сто доносятся вкусные запахи и аппетитный стук ножей по
тарелкам. Там иногда смутно мелькают женские силуэты,