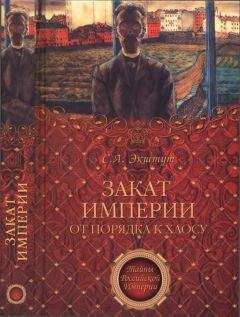Вениамин Каверин - Эпилог
Потом Алексей Александрович находился в психиатрической больнице при НКВД. Когда? Долго ли?
Известно лишь — это выяснил Лев, — что он умер в 1940 году.
11Помнится, меня долго мучило несчастное совпадение. Мать приехала ко Льву, и в третий раз (1940) он был арестован у нее на глазах. И на этот раз он не сопротивлялся, это было бессмысленно и бесцельно, но вдруг начал что-то объяснять, растолковывать…
С болезненным, так и не зажившим ощущением я вижу эту сцену, которая была удивительно на него не похожа. Что же должно было вспыхнуть перед глазами, если он заговорил с людьми, которые пришли арестовать его, — арестовать, и только! С упавшим сердцем слушал я мамин рассказ. Это была растерянность. Это значило, что больше мы его не увидим.
Теперь З.В. было вдвое труднее — ведь и Алексей Александрович был арестован. И все-таки она делала все, что могла, в этот последний предвоенный год. Но именно потому, что он был последний (или по другим, не известным мне причинам), тройки, работавшие в НКВД, не занимались следствием и делали свое дело, вынося приговоры без предварительного дознания.
Впоследствии Лев рассказывал мне, что накануне (как можно было ожидать) судебного разбора его дела он всю ночь готовился к защитительной речи. Легко представить себе, что это была первоклассная речь, которая опрокинула бы все обвинения. Ему не дали сказать ни слова. Он обвинялся по четырем пунктам 58-й статьи — измена родине, контрреволюционная агитация, диверсионно-вредительская работа и что-то еще — кажется, связь не то с Рыковым, не то с Пятаковым. Довольно было и одного первого пункта, чтобы приговорить его к расстрелу. Но он не подписал ни одного показания, и это, по-видимому, решило дело. Впрочем, нельзя сказать, что он высоко оценил милосердие судей.
«Когда-нибудь лошади будут над этим смеяться!» — крикнул он с бешенством, выслушав приговор.
Этот возглас мог бы прибавить к его десяти годам еще пять — за оскорбление суда. Но не прибавил. Может быть, не было времени?
Брат попал в лагерь на Печору и стал врачом в местной больнице. О последнем переходе, когда вдвоем с конвойным, замерзшие, поддерживая друг друга, они плелись, одолевая последние метры, Лев вспоминал как о самом тяжелом в жизни испытании. Он заплакал над тарелкой борща, которую врачи, знавшие его, поставили перед ним.
Но способность быстро приходить в себя после перенесенного потрясения не оставила его и в лагере.
С его находчивостью и энергией, с его редкой способностью применяться к обстоятельствам иначе и быть не могло. Не знаю, сразу ли он попал в больницу, но так или иначе, оглядевшись, он сумел внести в ее жизнь ту живость и новизну, которыми было отмечено все, что он делал. Он сумел сразу же поставить себя, и это удалось.
12«Будучи в одном из северных лагерей, я узнал, что олений мох — ягель — содержит много углеводов, и организовал довольно значительное производство дрожжей, используя обработанный соответствующим образом олений мох в качестве среды для их размножения. Дрожжи были очень важным продуктом в наших условиях, главным образом как источник витаминов. При подкожном введении они оказывали весьма благоприятное действие на тяжелые авитаминозы и дистрофии, в которых не было недостатка. Мои дрожжи спасли немало жизней. Затем я узнал, что из ягеля можно делать спирт, что было известно еще в конце прошлого века. В военных условиях казалось целесообразным использовать громадные на Севере запасы ягеля для приготовления спирта, экономя картофель и зерно, из которых главным образом производили тогда спирт. Я и написал об этом начальнику довольно обстоятельную записку с соответствующими выкладками. Между тем подкожные инъекции дрожжей для лечения авитаминозов и дистрофий начали применять и в других лазаретах. Среди многих других трудностей, которые нужно было преодолеть для расширения дрожжевого производства, отсутствие пробок для закупорки бутылок было наиболее серьезным. Вместе с членом-корреспондентом Академии наук профессором П.Н. Лукирским мы научились обрабатывать кору некоторых деревьев так, что она становилась эластичной на 2–3 недели. Этого было достаточно, чтобы послать дрожжи в соседние лазареты. Всем этим заинтересовалось санитарное начальство лагеря, и по моему предложению был устроен съезд лагерных врачей, на котором в числе других вопросов обсуждался и вопрос о подкожном лечении дрожжами. Съезд происходил за Полярным кругом и проходил очень оживленно и интересно».
За этим скупым рассказом открывается многое.
Через несколько лет после войны, отдыхая в санатории «Малеевка», я чем-то заболел. Пришла сестра, пожилая, с тихим голосом, сделана мне укол и вдруг спросила:
— А как поживает Лев Александрович?
Удивленный, я ответил, что все хорошо, здоров и работает, а потом в свою очередь спросил:
— Откуда вы его знаете?
— Ну как же не знать человека, который спас мне жизнь? — отвечала она.
В лагере она связалась с уголовниками, хотела уйти от них, они грозили убить — и убили бы, если бы Лев не взял ее санитаркой в больницу. Это было опасно для обоих.
Глубоко сожалею, что не сохранилось письмо члена-коррес-пондента Академии наук П.Н.Лукирского — я получил его в годы войны. Он с такой теплотой отзывался о Льве, что, читая письмо, я с трудом удерживался от слез. Физически спасли Лукирского дрожжи из ягеля, а психологически — что было несравненно важнее — мой брат, вернувший ему любовь и волю к работе и жизни. Он вышел на свободу годами двумя позже, чем Лев.
Быть может, найдутся читатели, которые упрекнут меня в пристрастной оценке его личности, — все-таки брат! Но у кого еще хватило бы энергии, чтобы, положив начало медицинской вирусологии в Советском Союзе, повернуть к дрожжам, к производству спирта из ягеля — словом, к делу, о котором он до тех пор не имел никакого понятия!
Он и в своих мемуарах пишет о лагерной жизни не как зэк, сосланный за измену родине, а как научный работник, откомандированный на Печору для экспериментального изготовления витаминов.
Я помню одно из его писем к З.В., кажется, в зиму 1942 года. Трудно было поверить, что оно написано человеком, которого вырвали из привычного круга людей науки, унизили, уничтожили, сломали. Как бы не так! В своем письме Лев поэтически рисовал красоту северной природы и цитировал любимое стихотворение Фета:
…И плачу я, как первый иудей На рубеже страны обетованной.
Как виден был в этом письме Лев с его способностью находить хорошее в дурном, с его юношеским, гимназическим, романтическим отношением к жизни! Эти черты как-то естественно соединялись в нем с деловитостью, с административной хваткой. В противном случае едва ли удалось бы ему устроить первый в истории человечества медицинский съезд за Полярным кругом, прошедший «оживленно и интересно». Еще бы! Нетрудно представить себе, каким событием был этот съезд в жизни врачей, перенесших муки унижений и теперь размышлявших вслух: как помочь отторгнувшей их, оскорбившей их стране.